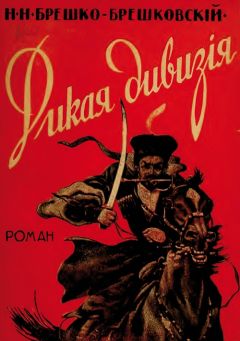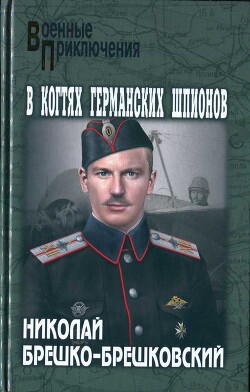Шпионы и солдаты - Брешко-Брешковский Николай Николаевич
Дождь перестал, прояснились небеса, вот и пленные. Генерал, высокий и стройный, с поручичьей фигурой, вышел из дому взглянуть на подозрительного унтер-офицера.
Генерал — бывший гвардеец и светский человек — опытным глазом с первого же впечатления определил какую-то печать особенной, вырожденческой породы в этом белесом унтер-офицере, с так хорошо пригнанной формой из тонкого сукна и в сапогах, обошедшихся, по крайней мере, в сто марок. Желая сразу поймать пленника, генерал спросил нарочно по-французски:
— Кто вы такой?
Унтер-офицер пошел на эту удочку и на порядочном французском языке ответил:
— Я простой солдат, Ганс Шмидт!..
Генерал подозвал к себе пленных офицеров.
— Кто он такой? — спросил дивизионный капитана, державшего руку у своей еще с мокрым чехлом каски.
Унтер-офицер отчаянно "телеграфировал" глазами, и капитан мямлил какую-то чушь. Дивизионный, оборвав его, махнул рукою.
— Все это хорошо в оперетке, а здесь не оперетка, а война, — обратился с досадой генерал к адъютанту.
Ему пришла какая-то мысль, и он коротко велел:
— Обыскать!
Таинственный унтер-офицер вздумал было противиться, но два-три добрых тумака привели его в христианскую веру. Ревниво обыскивал свою законную добычу Петро Цвиркун, не давая этого делать другим солдатам. Из внутреннего кармана мундира он вытащил дорогой крокодиловой кожи бумажник, весь в золотых монограммах. Генерал, качая головой, повертел бумажник, вынул оттуда несколько визитных карточек. А вслед за этим уже адъютант протягивал ему перехваченный у Цвиркуна плоский золотой портсигар с брильянтовой герцогской короной.
И бумажник, и портсигар были тотчас же возвращены унтер-офицеру. А генерал, повеселевший и радостный, молвил адъютанту:
— Эта белобрысая жердь — герцог Ашенбруннерский. Такой пленник для начала — конфетка!..
И меняя улыбающееся лицо на строгое, начальническое, генерал обратился к солдатам:
— Кто взял его в плен?
— Так что я, ваше превосходительство…
Генерал с необидной, отражавшей скорей любопытство улыбкой, смерил неказистую фигуру Цвиркуна.
— Как же ты его взял?
— А так, ваше превосходительство, ен хотел в мене с леворвела стрелить, а я его по зубам, по зубам, наложил по первое число, ну и в смирение привел. Так и взял…
— Молодец, поздравляю с Георгием! Граф, дайте ему двадцать пять рублей, — обратился дивизионный к адъютанту и продолжал по-французски: — Вот наш типичный солдат, невзрачный, непоказной, тихо и скромно делающий большие дела. Этот шут гороховый с выпученными глазами — как-никак коронованная особа. А он ему набил морду, сгреб за шиворот и приволок. Просто!..
Герцога отправили сначала в Петроград, а потом в глубь России. Отправили с почетом, в отдельном купе. Бедный герцог! Так беспощадно разбились все его гордые завоевательные мечтания. Торжественное вступление в Варшаву, путь, усыпанный розами, улыбки очаровательных полек? Где все эти триумфы?
Стоило получать коленопреклоненному от герцогини-матери благословение в зале с фамильными портретами великих предков, стоило говорить такие огненные речи в штабе корпуса, чтобы, в конце концов, какой-то шаршавый и немытый русский солдат совсем уже не по-рыцарски расцветил благородную герцогскую физиономию фонарями?.. А всему виною этот глупейший маскарад.
Бедный герцог…
А Цвиркун?
Грудь Цвиркуна украсилась Георгиевским крестом, и он подвигается все дальше вместе со своим полком в глубь неприятельской земли. В письме на родину Цвиркун тяжелыми, испарину вызывавшими у него каракулями описал свой подвиг в тех же самых выражениях, как он докладывал ротному и дивизионному.
И к письму были приложены деньги — двадцать пять рублей.
"У мене здеся на войне усе есть… А табе, Лукия, на хозяйстве сгодица", — заканчивал Цвиркун свое послание в далекие белорусские Паричи.
Где ты сейчас, Цвиркун?.. Жив ли?..
ОРЛЕНОК С ЧЕРНОЙ ГОРЫ
— Сегодня ночью выступают, а может, и выступили…
— И много?..
— Батальон альпийских стрелков. В боевом составе — это с хвостиком тысяча штыков. С ним еще несколько митральез Шнейдера и горные пушки на магарцах [1]…
— И прямо на Ловчен?..
— Прямо на Ловчен. Сказывают, гора укреплена сербской артиллерией, когда они были под Скадром… Только вряд ли…
— Так-то оно так, а овладеть такой позицией — шутка нелегкая!..
— Чудак-человек. Важно — добраться. А раз там — ни одного взвода — какая же трудность? Только б укрепиться. Потом извольте выбивать австрийцев. Как начнут громить Цетинье, в полчаса не останется камня на камне…
— Посмотрим, не за горами. Хотя именно за горами…
— Ну, лягка ночь!..
— Лягка ночь!..
Говорили оба солдата по-хорватски. Янко Павлович слышал все из своего каземата, благо не было стекол в оконце и вечер дышал прохладою с моря сквозь чугунную в кольцах решетку…
Один солдат ушел, остался часовой у этой, птичьим гнездом примостившейся к горному скату, тюрьмы. Здание с массивными стенами помнило еще расцвет венецианской республики, когда пышная царица Адриатики владела всем Далматинским побережьем.
Назад много веков тому был здесь торговый двор купцов из Дубровника, а теперь австрийцы гноят "политических". Этим швабам весь Божий мир хотелось бы превратить в одну сплошную тюрьму!..
Янко похолодел весь. Лучше бы не подслушивал!.. Все равно сам узник и помочь решительно ничем не может… Крылья связаны…
Надо быть черногорцем и пылким пятнадцатилетним юношей, как Янко, чтоб понять весь ужас его охвативший!
Проклятые швабы до объявления войны желают овладеть предательски, врасплох святынею Черногории Ловчен-Планиною, этим ключом к столице короля Николая и к австрийской бухте Каттаро… Ловчен-Планиной с ее дорогими могилами легендарных юнаков, словно серебряной парчою покрытыми вечным розовеющим на солнце снегом…
— Эх, если б свобода!.. Если бы… Козьими тропами, — в горах каждая морщинка знакома — бросился бы Янко туда наверх, в свой родной Негуш, оповестить кого следует вовремя. А так — пропадет все пропадом!
И кто знает, быть может, швабская колонна поднимается уже из Каттаро вверх по шоссе, чтоб из Чертовой Петли двинуться на Ловчен. Тирольцы умеют лазить в горах. Доберутся или нет — другой вопрос, но самое посягательство швабов на эту дорогую всякому черногорскому сердцу, всякому от мала до велика, высоченную — выше нет во всей стране — скалу уже само по себе казалось юноше дерзким кощунством.
И словно орленок в клетке, — да он и был орленком с Черной горы, — заметался Янко в четырех каменных стенах своего каземата. Уйти, убежать? Но как убежишь от этого гранитного мешка с тяжелой дверью, обитой гвоздями и ржавым шестисотлетним железом?
Янко бросился к окну — квадратной отдушине, схватился за чугунные полосы и, приподнявшись на мускулах, глянул: там, далеко над морем, вечерний дремотный туман, а здесь, близко у самой стены, часовой в своем твердом кивере шагает взад и вперед спокойно и мерно, как маятник.
А время уходит… Заволакиваются вечерней дымкою дали. Прозрачным туманом подернулись высокие островерхие кипарисы кладбища.
Янко упругим, цепким движением соскочил на каменный, жиденько-устланный соломою пол. Заметался в бессильном бешенстве! И столько клокотало в нем гасящей рассудок злобы, кажется, так и разбил бы череп сослепу об эту стену, с громадными ввинченными кольцами, — здесь швабы на цепях держали "важных" политических.
Но какая такая политика числилась за Янко Павловичем? А вот какая. Жил у него родственник в Каттаро. Янко бегал часто к нему в гости, благо из Негуша, напрямик через горы, пути — рукой подать. И ничего, сходило… Никогда никаких паспортов и пропусков не пытали. Но вчера вот у мола, — только что из Ругузы пароход пришел, — видит Янко австрийский жандарм бьет старую черногорку: "Не смей говорить по-сербски!" Янко, хоть и пятнадцатилетиий, — на полголовы ростом был выше жандарма, приземистого немца из Граца… Жандарм кубарем отлетел от старухи на несколько шагов, а Янко схватили другие жандармы. Он — упираться, они — прикладами! Орленок, сверкая глазами, сыпал ударами направо и налево. Но, в конце концов, окровавленный, избитый весь, обезоруженный, — револьвер отняли, — доставлен был к коменданту, гримировавшемуся под Франца-Иосифа, генералу Брюллеру. Дорогою жандармы поносили пленника!..