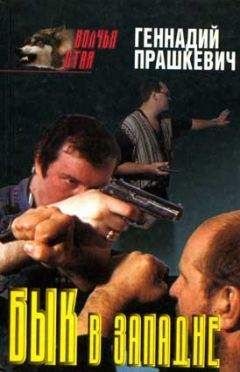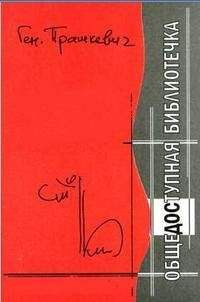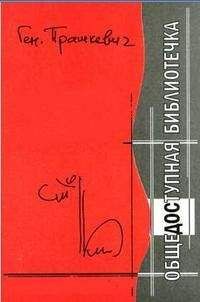Геннадий Прашкевич - Иванов-48
6
Может, у Полярника оставил тетрадь?
Ну это вряд ли, хотя заходил вчера в его комнату.
Не один заходил, с Полиной. Клетчатая юбка, комсомольский значок на блузке, Нижняя Тунгуска — прозвище. Ничего обидного, просто на этой северной реке Полярник не один год работал, много о тех краях рассказывал, а Полина что услышит, то у нее и на языке. «Нижняя Тунгуска! Нижняя Тунгуска!»
Зато теперь у Полины ключ и доверенность от Полярника.
Раз в неделю приходила в комнату сметать пыль с книг. Бросала на диван меховую муфту, берет, шубку. Ночевать редко оставалась, но днем могла поваляться на диване в пустой комнате. Повесила на узкие двойные окна штапельные занавески. Повесила на виду демисезонное вельветовое пальто и голубой боярский сарафан с нашитыми пуговицами. Получила к октябрьским праздникам в каком-то бедном библиотечном распределителе. И там же поставила новые французские ботинки на слишком уж высоком каблуке. Приедет Полярник, спилит лишнее.
Полина — библиотекарь. У нее, как у классной работницы, есть специальные дни, когда она должна развивать политическое самосознание. Вот она в комнату Полярника придет, накинет крючок на дверь изнутри, и развивается — то ли спит, то ли вчитывается в Постановления. Вчера пришла днем, долго двигала мебель, стучала венскими стульями, тряпкой шлепала, тапочками, бегала на кухню, переругивалась с татаркой. Потом наконец татарка ушла и в бараке установилась немыслимая тишина. Даже репродуктор заткнулся — ни песенок, ни выступлений. Иванов сидел за столом, пытался сосредоточиться, но вместо того, чтобы думать о новых замечаниях к книгам Сталинских лауреатов, думал о Полине. У нее, у Нижней Тунгуски, глаза при свете странно меняются. Становятся черными, глубокими. Черных прожекторов не бывает, но будь — так же вспыхивали бы.
Толкнулась в дверь: «Поможешь шкап отпихнуть?»
И засмеялась, пропуская его в дверь. «Писателю, — засмеялась, — необязательно быть хромым. Палку-то свою оставь». Такой у нее был язык.
А Иванов попытался протиснуться мимо нее и застыл.
В простенке между узкими окнами в комнате Полярника висел новый плакат в три краски. Полина его только что повесила. На плакате — девушка в белом платочке, строгие черные глаза, внизу коротко: «Не болтай!». Рисовали девушку, будто с Нижней Тунгуски, ну, вылитая.
Будь начеку. В такие дни
подслушивают стены.
Недалеко от болтовни
до сплетни и измены!
У стены — два ящика водки, новый велосипед, какие-то непонятные коробки, мешковина, в мешковину тоже что-то завернуто. Денежная реформа прошла в декабре прошлого года. С шестнадцатого по двадцать девятое декабря нужно было обменять всю имеющуюся наличность, если она, конечно, у тебя имелась. А вот наличность Полярника можно было менять в течение целых четырнадцати дней, он работал далеко — за Полярным кругом, к таким особое уважение. Полярник Полине оставил доверенность, так что поработала она неплохо. Похоже, скупила все, что можно было скупить, что не портится от хранения, карточную-то систему отменили. А что у нас дольше всего не портится? Правильно, водка. А еще что? Правильно, велосипед, если не дать ему заржаветь. Полярник приедет, удивится — неужели все куплено на его рубли? На твои, на твои, скажет Полина, на твои, смелый исследователь! Полярник, говорят, новую реку открыл на Севере, а здесь у него тоже такая полноводная река— Нижняя Тунгуска.
Иванов так и уставился на плакат, а Полина поднырнула под руку, и он ее обнял.
Полярник вернется, увидит плакат «Не болтай!» — возрадуется. Да и как по-другому? Рука Иванова сама собой, без всяких мыслей скользнула по плечу Полины, а она уже повернулась и медленно потянулась к нему. Дверь не закрыта, ох, не закрыта. Зубы блестят, как у негритянки.
«Не болтай!»
Ох, не болтай!
Татарка куда-то вышла, инвалида тоже нет, и Француженка где-нибудь мерзнет в очереди. Руки жили сами по себе, их учить не надо. Искал потерянную тетрадь, а нашел… Что нашел?.. Или это Полина нашла?.. «Поможешь шкап отпихнуть?..» Губы у самых его губ и черные прожектора глаз высвечивают все самые темные глубины онемевшей внезапно совести.
Спина теплая, шея открытая.
Иванов жадно целовал поддающиеся губы.
«Мне только шкап сдвинуть…» — «Для того и пришел…» — «Мне только шкап…» — «Знаю, знаю…» И чуть не со слезами: «Здесь целовать не нужно…» Кожа шелковистая, нежная… Запах «Красной Москвы» — нежный, перебивающий запах пота… И всякие резинки, тесемки, вся эта упряжь женская. Одна Полина со стены требует: «Не болтай!», а другая — прижалась. Крепко. Всем телом вдвинул ее в дверцу шкапа, будто, правда, отпихнуть хотел. Мял груди. Прозрачная как стрекоза. В саду Сталина играл такой тромбонист Герман Мышкин, длинный, точнее, рослый, местная знаменитость, а в ресторане железнодорожного вокзала Володя Коновалов — кларнет. Одно время Полина с ними дружила. Иванов к ним ревновал. Не его дело, а ревновал. Губы теперь открывались, жили своей жизнью. Правда, жила тогда Полина в Заельцовском районе, туда девушку провожать — убьют, кларнетом не отобьешься. Там по оврагам самая страшная шпана кучковалась, да и джаз объявили музыкой толстых. Задыхался. К черту Мышкина! К черту Коновалова! Мял Полину, как тугое сладкое тесто, впивался в губы, сдирал, стаскивал что-то, притиснул.
«Мне только шкап отпихнуть…» Обхватила ногами, повисла.
Все звуки резко усилились, форточка стукнула под сквозняком.
«Ну же, ну же…» — стонала. А он прижимал, будто, правда, шкап отпихивал.
«Не болтай!» — смотрела со стены одна Полина. А другая, настоящая, обхватила его ногами, со стоном повисла, губы в губы, вливалась загадочная река, всасывала его тело. Секунды отщелкивались. Сейчас хлопнет дверь, и татарка вернется. Или проклятый инвалид притащит охапку дров. «Ну же, ну же…»
И снова тот же повтор в нестерпимом ритме.
7
Но гроза налетела, отшумела, напугала молниями.
«У меня тут чай кирпичный, китайский, иркутского развеса, не труха какая-нибудь, я Полярнику несколько килограммов такого чая купила, он любит. Считай, две недели провела в очередях». Торопливо, не пряча глаз, побежала в кухню за чайником.
На столе — книги, пустая чернильница, пара перьевых ручек, карандаши.
Хлопнула входная дверь, холодком потянуло. Это вернулась наконец продрогшая татарка. Ее окликать в такой момент, что старые мины растаскивать. Но Полина ничего не боялась. «Тетя Аза, вот чай горячий. Наливайте. С холоду-то. Кирпичный, китайский, видите цвет?»
Татарка, конечно, предпочла бы посидеть с ними за одним столом, особенно в комнате Полярника, но в этом Полина была строга.
А Иванов все слышал как бы издали. Машинально раскрыл попавшую под руку книжку. «Справочник по математике». Государственное научно-техническое издательство. 1931 год. «В обстановке, когда широчайшие массы трудящихся под руководством ВКП(б) двинулись в поход за техникой, когда поставлена задача добиться того, чтобы у рабочего класса СССР была своя собственная производственно-техническая интеллигенция (Сталин), необходимо принять все меры к широкому распространению сведений из техники и тех. наук, как математика, физика, химия и т. д., на которых покоится весь теоретический фундамент современной техники…»
Чай пили с клюквенной пастилой.
— Ты, наверное, слышал про конец света?
Он кивнул. Ну кто об этом нынче не слышал?
— В газетах пишут, что американцы еще одну бомбу испытали. Еще страшнее. Вот ужас, правда? Ну, скажи, Иванов: мы только-только одну войну закончили, неужели вторая скоро начнется? Инвалид говорит, что эта бомба и будет концом света. — Засмеялась, черные глаза повлажнели, понимала, что Иванов сейчас не о войне думает. — Как думаешь, почему у нас такой бомбы нет?
— А может, и есть. Откуда нам с тобой знать такое?
Повела темным взглядом. Будто впервые увидела — низкая комната, плакат, узкие барачные окна, примерзший к подоконнику «Календарь колхозника за 1948 год» с изображением рабочего и колхозницы с серпом и молотом в дружных руках.
Вдруг сказала:
— Ребенка хочу.
Он промолчал, не знал, что на такое ответить.
— Вот приедет Полярник, сразу заведу ребенка.
Полина произнесла это так просто, и так обыденно, и в то же время счастливо, с таким каким-то особенным пониманием произнесенных вслух слов, что у него заныла вся-вся изломанная нога — от бедра до негнущихся, неправильно сросшихся пальцев, и голову обхватило туго, как стальным холодным обручем. Полина произнесла эти слова так, что сразу и навсегда оборвались все только что придуманные Ивановым ниточки, которыми он, конечно, уже успел привязать себя и к отпихнутому от стены шкафу, и к полуоткрытой двери, и к только что утихшим стонам в невысокой комнате.