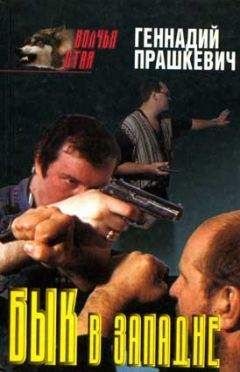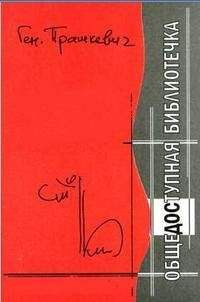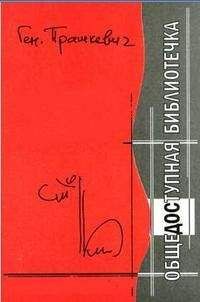Геннадий Прашкевич - Иванов-48
По какой-то ассоциации вспомнил Абрама, жил такой на станции Тайга.
Все у этого Абрама было при себе — руки, ноги, нос, жесткие волосы, только все при этом несоразмерно крупное, пухлое. Неслыханной толщины человек. Про него говорили: «жрет много». Абрам, правда, когда шел, колыхался, как студень. И почему-то даже зимой в холод лютый вилась над ним, трепетала крылышками какая-то беспомощная безмолвная бабочка. То ли она виделась людям, то ли такие отсветы. Иванов на всякий случай историю про Абрама записал. Про нос большой, про неслыханную толщину, про то, как колыхался на ходу. Понятно, Абрам не воевал, какая война при водянке? Пока выроет окоп, ему отстрелят все, что можно отстрелить. Все равно: «жрет много». А он, Абрам этот, наверное, от голода пух, темный, дряблый, весь в колышущихся складках, как дирижабль заграждения. Один из многих тысяч и тысяч, но — в тучных складках, потный, всегда колыхающийся; и всегда неслыханная бабочка трепетала над ним.
«Мистика», — определил Филиппыч, выслушав.
И добавил: «Ты, Иванов, лучше пиши про Лунина».
И подтолкнул по столу письма: «Займись селькором Ептышевым».
В Мошково лектор приехал а афиш нету.
Так писал селькор Ептышев из села Мошково.
Бабка на лекцию пришла фамилия Карягина восемьдесят семь лет.
Никаких знаков препинания, кроме точки, Ептышев в принципе не признавал.
Моя тетка прибавляла себе лет в юности чтобы взяли на работу все так делали а теперь пенсионный срок подкатил кому хочется скостить годы.
Карягиной за сто наверно врет скрывает просит скостить в прошлом году сердечко придавило.
Маленькое как у курицы а вот придавило.
Шла мимо библиотеки книжные девки врача вызвали.
Из города дочка приехать не могла пишет что держит пальчики крестиком.
А Коля-Николай братик младший в семьдесят лет отдал богу душу.
Душа у него пропитая само собой но господь все берет.
Я с Колей-Николаем в больнице лежал в пульмонологии.
Странно, но такое сложное слово селькор написал без единой ошибки.
Пока лечился освоил необычный транспорт каталку возил умерших не всем повезло выздороветь в том году да не все и хотели.
Каталка на резиновом ходу впечатление незабываемое.
Может Коля-Николай и встал бы но пятого декабря в день Сталинской конституции главного врача арестовали вредителем оказался.
Я еще двоих в морг отвез такие мои воспоминания а теперь иду скотников разнимать.
Степан да Федор а третьего по имени не зовут просто Ты.
Федор Степана совсем в угол загнал гнетет на глазах скотины.
Остаюсь с коммунистическим приветом.
Так селькор писал, не признавал никаких знаков.
Да и кому они нужны — эти так называемые знаки препинания?
«Ты, когда будешь править заметку, про пятое декабря убери, — как бы между прочим подсказал Филиппыч. — И про каталку тоже».
«А про что оставить? Про смертность?»
Филиппыч нахмурился: «Я тебя, Иванов, наверное, выгоню из газеты. Зачем нам писать про смертность, если это все уже далеко в прошлом? На скотников упор делай. Нет у скотников никакой культуры. Селькор Ептышев что в каждом письме пишет? Степан да Федор, да этот, который Ты, они дерутся, ругаются, нет никому покоя. Но при этом, заметь, коровы на них не жалуются, телята не мрут, никакой, считай, смертности. Только стиль Ептышева не трогай».
«Какой стиль? Ни одного знака препинания».
«Отсутствие знаков препинания — тоже стиль».
Филиппыч подсовывал Иванову и другие письма.
На дальней ферме электроэнергию отрубили, какие-то причины, ни одного электрона до коров не доходит. Местные леса рубят где не положено. На реке напротив села Дольчиково рыба неожиданно всплыла брюхом кверху, зато подсолнухи вымахали выше человеческого роста.
И еще много на что жаловались.
Например, на близкий конец света.
Вот говорят, жаловались, американцы придумали такую бомбу, что ни глухой, ни слепой, ни парализованный от нее не уцелеет. Кого светом убьет, кого страшным шумом, кого просто сожжет, прах развеет, а кого задавит каменными обломками самых больших зданий, хоть ничего каменного больше не строй. У нас, писали, такой бомбы нет, зато мы пустили линию трамвая — без пересадки от Плющихи до сада Дзержинского. А в оперном театре князь Игорь поет: «Ни сна, ни отдыха измученной душе, мне ночь не шлет отрады и забвенья». Хорошо бы поменять эти пессимистические слова, жаловался городской юнкор Птушников. «Все прошлое я вновь переживаю». Да какое прошлое? Зачем нам прошлое переживать? Что с него толку? Нам новое строить и то некогда. На базарной площади напротив театра мужики день и ночь торгуют частным медом и частной картошкой, а могли бы новую железную дорогу построить. И железнодорожный вокзал у нас самый большой в стране, а американцы никак не уймутся, опять бомбу придумали. Шерстяных носков нигде не купить, а они — опять бомбу. Такую, что даже воздух будет гореть. Скажем, над Бердском эту бомбу взорвали, а воздух выгорит и в Черепаново и в Мошково. Будь у бога окна, ему бы давно все стекла выхлестали.
5
А тетя Аза опять делила комнату Полярника.
Спрашивала с волнением: «Да зачем ему эта комната?».
Вопрос праздный, но спрашивала. А тетя Фрида, Француженка, ее почти не слушала:
«Инвалид-то, смотри, опять споткнулся. Уже девяносто четвертый раз».
«Может, к добру? — почему-то с надеждой спрашивала татарка и охала: — Мне бы лишнюю комнату, я бы даже мебель не стала выносить, все сохранила бы, сдвинула к стене. Зачем мне чужое? Матрас брошу на пол, вот и место для бедных детей».
— Дверь Полярника на замке, — со значением напоминала Француженка.
— А мы замок сорвем, — отвечала дворничиха убежденно.
— Ты это перестань. Я и так каждую неделю в милиции отмечаюсь.
Француженку, тетю Фриду, Иванов знал плохо. Известно, что в Ленинграде преподавала, детей учила. Но, наверное, не тому учила, раз выслали ее в такой далекий сибирский город. Снег идет, потом дождь падает, потом приходят жар, сушь, и снова падает дождь, снег, круговорот воды в природе, а тете Фриде являться в отделение надо. В комнате Француженки стоят простой диванчик да пара табуреток. Все как у всех, только мировоззрение другое.
Вот, кстати, подумал Иванов, буду делать сообщение о Сталинских лауреатах, надо вспомнить о разных мировоззрениях. Тут ясно же. Отмечаешься в милиции каждую неделю, один у тебя взгляд на романы Кетлинской или Павленко, а не ходишь отмечаться — совсем другой. Дворничиха свою комнату не запирает, в комнате ее бедлам, как во Дворце культуры после праздника. «Нас же пятеро!» Зато у Полярника, это правда, всегда навешен замок. Француженка со своей святой водой — как заяц холодный, а майор Воропаев даже служебный телефон выставил в коридор.
Вспомнил: когда ему, молодому сотруднику областной газеты Иванову, в Театре оперы и балета на торжественном городском собрании вручали премию за книжку о машинисте Лунине, первый секретарь горкома партии одобрительно сказал с трибуны: «Город тобой гордится, товарищ Иванов. Мы теперь Николая Лунина с твоих слов знать будем. Ты правильно о нем рассказал. Паровозная бригада машиниста Николая Лунина всегда брала ремонт паровоза на себя, ты это, товарищ Иванов, очень художественно изобразил». А секретарь писательской организации Слепухин добавил: «Товарищ Иванов у нас на хорошем счету. Ждем его новых книг».
Первый секретарь (уже с места): «А он работает?»
Секретарь писательской организации — с трибуны: «Он много работает. Вот сдал в издательство новую рукопись. Сейчас в процессе прохождения. А как выйдет книга, обсудим ее всем миром».
«А о чем писал? Чем вдохновлялся?»
Пришлось Иванову встать. «Ну, как… Широкая книга… О людях города… Они, считаю, заслуживают…»
Первый секретарь понимающе покивал: «Значит, уважаешь трудовой народ?»
А чего трудовой народ не уважать? От трудового народа все зависит. Выйдет книга или не выйдет. Примут тебя в Союз писателей или не примут. Получишь ты Сталинскую премию или не получишь. Тут ведь дело простое. Примут в Союз писателей, значит, получу право на дополнительные метры — писательский кабинет. Звучит красиво. И нужно очень. Писательский кабинет. Каждый советский писатель имеет право на дополнительные метры — на писательский кабинет. Черт бы побрал тетрадь, куда она запропастилась? Память хорошая, слава богу, но некоторым заметкам не придаешь значения, а они потом, как кристалл, вспыхивают. Вот писательский кабинет появится, я ни одну бумажку больше не потеряю. Куплю пишущую машинку, поставлю на табуретку. Удобно, — как Сталинскому лауреату.