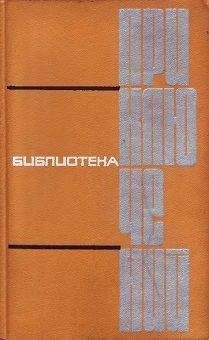Валентин Ежов - Горькая любовь князя Серебряного
Елена стояла, не в силах поднять глаз.
— Прости, боярин, надо спешить, — засобирался вдруг Серебряный, — Я еще и дома не был, а завтра мне чуть свет к царю.
— Что ты, князь? Теперь уж смерклось, а тебе с лишком сто верст ехать!
— Как? Разве царь не в Кремле? ~
— Нет, князь. Прогневали мы Господа. Бросил нас государь, уехал жить в Александрову Слободу.
— Коли так, тем паче надо спешить!
— Не езди, князь, в слободу! Видит Бог, не снести тебе головы! — Морозов посмотрел на князя с грустным участием;1- Слыхал я про твои подвиги в литовской земле. Бился ты храбро, а вот в остальном… Слишком ты прям и в делах, и в словах. — Серебряный смутился. — Сейчас такие не в чести. Попадешь под гнев царский и пропал ты, князь. С головой пропал. Не езди.
— Что будет, то будет! — ответил Серебряный, вставая.
Ноги под Еленой подкосились, и она опустилась на скамью.
— Что с тобой, Елена? — склонился над ней Морозов.
— Я нездорова, — пролепетала она. Морозов посмотрел на жену.
— Испугалась за князя, так и ноги не держат. Ступай, Елена, к себе! Отдохни.
Обернувшись к Серебряному, Морозов пошел проводить его до коня.
У ворот Михеич разговаривал со своим новым знакомым, слугою боярина.
— …Ты мне вот что скажи, — шептал Михеич. — На кой ляд они эти метла да песьи головы к седлам приторачивают?…
— А это значится — они так обозначают, — степенно ответил его собеседник.
— Да что обозначают-то?
— А это значится — они про Русь обозначают.
— Тьфу!.. Ну, а что? Что обозначают?
— Как что? Значится выметаем, мол, и грызем.
— Ага. Понял. Как выметаем — не знаю, а грызут они лихо — сам видал.
Морозов обнял у ворот князя.
— Да будет над тобой благословение божие! — сказал он. — Вернешся невредим, навести меня.
Ночь была ветреной и темной. Шумели в саду деревья.
Проезжая вдоль частокола, Серебряный увидел, как мелькнуло белое платье Елены. Он остановил коня.
— Князь, — позвала Елена негромко. — Сохрани тебя Бог ехать в слободу… Ты едешь на смерть!
— Елена Дмитриевна! — в отчаянии произнес Серебряный. — Не в бреду ли я? Ты замужем!
— Выслушай меня, Никита Романович, — прошептала она.
— Нечего мне слушать, я все понял! — голос князя зазвенел. — Не трать речей понапрасну! Прости, боярыня!
Он рванул коня на дыбы, поворачивая его.
— Никита Романыч! — вскричала Елена. — Молю тебя Христом Богом и Пречистою Его Матерью, выслушай меня! Убей меня после, но сперва выслушай!
Серебряный остановился.
— Я тебе все объясню. У меня не было спасения!.. В одном виновата — не достало сил наложить на себя руки, чем выйти за другого. Ты не можешь меня любить, князь… Но обещай, что не проклянешь меня, что простишь вину мою.
Князь слушал, нахмуря брови, молчал.
— Никита Романыч, — боязливо попросила Елена, — ради Христа, вымолви хоть словечко!
Князь взглянул в ее, полные страха и отчаяния, глаза.
— Боярыня, — помолчав, сказал он, и голос его дрогнул, — видно, на то была воля Божья. Я не могу… Я не кляну тебя — нет — не кляну. Видит Бог, я… Я по-прежнему люблю тебя!
Елена вскрикнула и взлетела на дерновую скамью, примыкавшую к частоколу с ее стороны. Князь приподнялся на стременах, схватившись за колья ограды. Уста их соединились. Долго длился их поцелуй. Князь чувствовал, что он теряет решительность.
— Прости, Елена, не сулил мне Бог счастья, не мне ты досталась. Прости, я должен ехать.
— Князь, они тебя замучат! — зарыдала Елена. — Что ж, теперь и мне достанет сил извести себя… Видит Бог, я не переживу тебя, Никита Романыч!
— Мне нельзя не ехать, — сказал князь решительно, хоть сердце его надрывалось. — Не могу хорониться один от царя моего, когда лучшие люди гибнут. Прости, Елена. Бог милостив, авось мы еще увидимся!
Не найдя в доме Елены, Морозов спустился с крыльца в сад. До него донеслись невнятные голоса.
Он свернул во тьму липовой аллеи, идущей вдоль ограды. Услышал плач Елены. Она что-то говорила, но шум ветра в высоких липах мешал разобрать слова. Он подошел ближе, и в темноте обозначилось белое платье его жены, стоящей на дерновой скамье. Морозов шагнул еще, и то, что он услышал, заставило его окаменеть.
— …Я люблю тебя больше жизни!.. — звучал сквозь рыдания страстный голос Елены. — Больше свету божьего! Я никого, кроме тебя, не люблю и любить не буду!
Оглушенный Морозов стоял, прислонившись спиной к липе. Мимо него быстро прошла заплаканная Елена, не заметив мужа. За оградой раздался топот коня.
Опомнившись, Морозов вскочил на скамью.
Во тьме таял смутный силуэт всадника.
— Кто же это? — мучительно морщась, прошептал боярин. — Афонька Вяземский?… Федька Басманов?… Нет, не может быть!
В своей светлице боярыня готовилась раздеться, но склонила голову на плечо и забылась.
Поднявшись по лестнице, Морозов, переодетый в ночное одеяние, остановился у дверного порога. Нависшие брови его были грозно сдвинуты. За дверью глухо возник крик и сдавленные рыдания Елены.
Она срывала с себя одежду, швыряя кокошник, белую ферязь. Рванула, рассыпая, бусы.
Боярин тихонько толкнул дверь и увидел, что она стояла нагая. Распущенные волосы упали ей на плечи, на спину.
Бросившись на приготовленную ко сну постель, она повернула к двери голову и замерла. Вскрикнув, попыталась прикрыться.
Увидев устремленные на него, полные страха, глаза Елены, Морозов постарался улыбнуться, чтобы жена пока не догадалась ни о чем.
Он тихо закрыл дверь. Не отрывая взгляда от прелестей молодой жены, подошел к постели, хрипло сказал:
— Я думаю, женушка… пора тебе и разделить со мной ложе.
Он упал на Елену, крепко сжал ее в объятиях. Елена, не вымолвив и слова, покорно отдалась ему. Только горькие слезы обильно бежали по ее лицу.
В Александровской Слободе еще не рассвело, а с колокольни церкви Божией Матери уже разносились радостные звуки благовеста.
Это царь Иоанн с сыном, царевичем Иваном, звонили в колокола, созывая на утреннюю молитву.
Из лестничной дыры показалась рыжая голова Малюты Скуратова. Отдуваясь, он поднялся наверх и присоединился к звонившим. Отзвонив, царь опустился с колокольни и вошел в церковь.
В храме мерцали свечи. С десяток опричников — братия в монашеских скуфейках и черных рясах — пели стихиры.
Царь Иван задавал тон.
— Бог — Господь, и явися нам…
Распевщики истово подхватывали песнопение. Особо радели Федор Басманов и Василий Грязной. Вяземский стал ближе к басам — Борису Годунову, Малюте Скуратову, Алексею Басманову.
Лицо царя было приветливым, но проницательные глаза подмечали и опухшую с похмелья рожу Грязного и потухший взор Вяземского.
Но и сам царь, Иван Васильевич, внешне разительно переменился за прошедшее время. Он постарел, щеки его как-то ввалились и одновременно обвисли. Орлиный нос стал круче, а на челе появились морщины. Цвет лица был нездоровый, а борода и усы повылезли, торчали отдельными волосками, клочьями. Сбылось пророчество блаженного Васи.
Слова молитвы возносились под темный свод церковного купола.
Владыко издали сделал царю поклон.
Царь, опустившись на колени, стал истово класть земные поклоны.
— Господи!.. Господи!.. Господи!
Кровавые знаки, напечатленные на его высоком челе прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых ударов об пол. Возводя очи к иконостасу, царь горячо упрашивал Бога:
— Господи наш!.. Пусть будет тишина на Святой Руси! Господи, дай мне побороть измену и непокорство! Благослови меня окончить дело великого Поту… Сравнять сильных со слабыми, чтобы не было, Господи, на Руси одного выше другого… Чтобы все были в равенстве!.. И чтоб только я один, Господи, стоял над всеми, аки дуб во чистом поле!
Он поднялся, подошел к Владыке и, смиренно сложив; руки, опустил взор.
— Благослови нас, Владыко! — попросил Иоанн.
В мантии, панагии и белом куколе, Владыко глядел на него, не шевелясь. И не дал царю благословение.
— Твои нечестивцы невинную кровь проливают. Творят беззакония, бесчинствуют, — произнес он. — И ты губишь душу свою. Много в тебе нераскаянной злобы и ненависти.
— Молчи, отец святой! — прервал Иоанн, сдерживая гнев. — Одно тебе говорю, только молчи. Молчи и благослови нас!
— Молчание наше на душу грех налагает, — возразил Владыко. — Кровь пролитая взывает к небу.
— Кто ты, Владыко, чтобы судить царя? — прошептал Иоанн.
— Я пастырь стада Христова! Мое священное право печаловаться.
— О ком печаловаться? — с досадой произнес Иоанн. — Боярство ищет мне зла, восстало на меня! Я думал найти в тебе опору, сподвижника, чтобы карать измену.
— Только милость — опора царя! Всякая кара есть насилие.