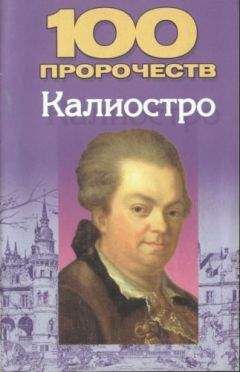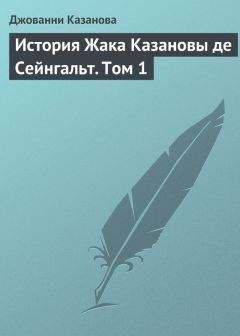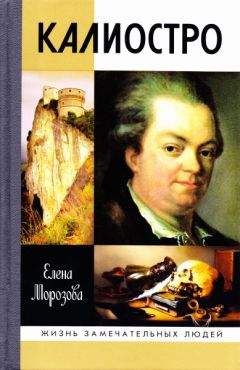Ёжи Журек - Казанова
Бедная Катай, раздвигать ноги, чтобы впустить нечто паршивенькое, недоразвитое, маленькое и легкое, как перышко. Да, да, именно перышко. Он без труда вырвет из нее этого съежившегося на стуле зазнайку, подбросит, как ручного голубя, и разрешит полетать. Да, видит Бог, он это сделает, он с них собьет спесь. Пусть увидят, кто здесь на самом деле смешон. Сделает это, сделает. Ведь он ощущает в себе силу, достаточную, чтобы поднять в воздух леса, горы, весь земной шар, а не только прыщавого недоросля. И его девочки это чувствуют. И Сара, и Этель, и Лили, прелестная Лили. Сосредоточенные, готовые мгновенно откликнуться на любой его знак. Они не зазеваются, не собьются с ритма. Сольются в единое тело с четырьмя парами рук, индусское божество, вызывающее страх и восхищение. Что против него Браницкий? Взлетит, не успев пискнуть от страха, взовьется к потолку, воткнется своей покрытой коростой башкой в стропила и, с разбитым черепом, грохнется им под ноги. Да будет так. Он расплатится за Катай. Да, только так. И не иначе.
Начали быстро, дружно, и вот уже их пальцы, точно когти, вонзились под мышки и под колени Браницкого, вот уже лишь секунды, доли секунд отделяют его от взлета… но тут граф рванулся вперед, едва не сбив с ног Этель и Сару.
— Оставьте вы меня, черт побери, в покое!
И, вскочив, больше уже не сел, ни минуты не задержался; увлекая за собой свою свиту, без единого слова объяснения, даже не попрощавшись, устремился к двери. Казанова с трудом сдержал гнев. Опершись одной рукой о спинку стула, другую положил на плечо Лили. Сейчас он ненавидел Браницкого не только за сорванный триумф и за Катай, но и за все грехи на свете, за всех оскорбленных и униженных, за свои и чужие беды. Эх, если бы сейчас ощутить под пальцами шершавую рукоятку ножа и пульсирующий кадык графа, и он бы ни минуты не колебался. Но ему не дано было испытать радость победителя. Он мог лишь крепко вцепиться в жесткий бархат обивки и деликатно, почти нежно — в гладкий бархат девичьей кожи.
— Оставь ее в покое. Сколько раз можно повторять.
Не резкое движение Бинетти и не странная даже для этого общества несдержанность, а блеск настоящего безумия в глазах подтвердил подозрения Казановы. Лили. Его Лили.
— У меня и в мыслях ничего такого нет.
И Бинетти бы теперь не заколебалась, будь у нее в руке какой-нибудь острый предмет. Перед ним была уже не любовница, каждую клеточку тела которой он с давних пор знал наизусть, и даже не женщина, заслуживающая уважения своей отвагой, — нет, опасный противник, жестокий и на все способный враг. Но и он был готов к бою. Что эта дура себе вообразила? Думает, имеет право ему указывать? С какой стати? Несколько раз в жизни она ему помогла, спору нет. Но разве он не отплатил ей сторицей? Не был великодушен, внимателен, не участвовал в ее интригах? Чего же она еще хочет? Унизить его без причины? Пусть попробует! Он ей язык откусит, если не прекратит молоть вздор.
— Предупреждаю: только без твоих штучек.
— Почему? Не вижу оснований.
Она почувствовала, что он вот-вот взорвется, и внезапно сникла. Легонько подтолкнула к двери испуганную и смущенную Лили.
— Основания есть, Джакомо.
Ага, теперь уж ей придется признаться. Лучше бы промолчать, заставить ее заговорить первой — ну а если упустит момент и опять ничего не узнает? Да в самом ли деле он хочет узнать, хочет получить уже ненужное подтверждение своей догадке? Да, хочет.
— Слушаю тебя.
Не скажет. Опять закипает от ненависти.
— Это имеет отношение только к тебе или, может быть… к нам обоим?
— К нам обоим.
Она точно выплюнула эти слова, но без видимого облегчения. Когда же он начал витиеватую фразу, в которой, наряду с деликатным упреком в сокрытии истины, должно было найтись место возвышенному апофеозу ее трогательной заботе о столь прекрасном плоде их любви, резко его оборвала. Это не все. Она бы хотела, она его просит, словом, пусть все остается, как есть. Лили не готова к знакомству с отцом. Да и других причин предостаточно… Он должен ее понять. Должен. Ничего не поделаешь, так уж сложилась жизнь.
Джакомо проглотил обиду легче, чем хотел бы это показать. Никто, впрочем, на них не смотрел и разговора не слышал, а перед Бинетти не стоило прикидываться. Он очень сожалеет… где же это могло быть, в Париже, а может, в Гамбурге, или он так метко попал в цель в этом проклятом Штутгарте после того, как она вызволила его из тюрьмы? Ужасно неприятно… откуда ему знать где, если он не знает когда; у него душа болит, но раз ее материнское сердце подсказывает, что так нужно, — он согласен. Пусть будет, как она хочет. Нежно обнял Бинетти. И все же еще в одной попытке он себе не откажет.
— Когда это было?
— Разве это важно?
— Важно. Хотя бы для Лили.
— Она удовольствуется тем, что я ей скажу.
«Бог мой, — подумал Джакомо, — видно, я ее сильно ранил, раз она столько лет скрывала правду. Но до недавнего времени и обиду ухитрялась скрывать. Притом настолько ловко, что в последние дни даже приходилось избегать ее пылкого внимания».
— В Париже?
Бинетти молчала, но на лице у нее промелькнуло подобие улыбки. Словно ей надоело притворяться суровой и она была не прочь восстановить прежние дружеские отношения. Видимо, не все ужасно в их общих воспоминаниях. Они, как безумные, занимались любовью дни и ночи напролет, расставались, встречались годы спустя, вновь предавались страсти, вновь расставались… Неужто здесь, в Варшаве, должно быть по-другому? Сейчас по-другому, но ведь это лишь минутное недоразумение, не более того. Катай? Разве он виноват? Она же сама подсунула ему эту девку.
— Мы еще можем за все себя вознаградить.
Разрумянившаяся от волнения, сердитая, но уже готовая смягчиться Бинетти показалась ему соблазнительной, как никогда. Они могли б здесь остаться, зал снят до завтра. А за сценой есть очень уютное местечко. Сейчас он всех выпроводит. Репетиция, собственно, уже закончилась. Нет, не уговорил. Она колеблется. Он слишком рано предвкушал победу. В чем дело? Не доверяет. Она что, дураком его считает? Не желает, чтобы он проявлял отцовскую заботу? Ну и не надо, у него найдутся занятия поинтересней, да и не привык он лезть, куда не просят.
— Хорошо. Все будет по-прежнему. Этой проблемы просто не существует.
Ага, теперь уже лучше. Бинетти с явным облегчением вздохнула, а он крепко сжал ее руку. Если только это мешало… Он готов прямо здесь, на полу, на мокрых опилках — так, пожалуй, будет даже пикантнее… Самым чарующим шепотом дохнул ей в ухо:
— Надеюсь, ты не считаешь, что это мой дебют в роли ненавязчивого отца? И предел моих возможностей?
Нет, не таких слов она ждала. Он попал пальцем в небо. Вырвала руку, злобно фыркнула и, повернувшись на каблуках, стремительно, точно кобыла Казимежа, понеслась к двери. Так и брызнули в стороны сырые опилки, на которые он собирался ее повалить. Не повалит. О, святое лицемерие! Без клятв в верности не обойтись. Никогда и нигде. Видимо, даже в борделе. Merde, так и вообще руки опустятся.
Хотя нет. Напротив: Джакомо ощутил неожиданный прилив сил. Вот сюрприз. Помощников отпустил. Пусть хорошенько отдохнут перед завтрашним днем. Он еще немного поработает. Вместе — он остановил ее на пороге — с Полей.
Никогда раньше он такого не видел, хотя знал, что это возможно. Флорентийский бродяга, который в грязной харчевне на берегу Арно демонстрировал ему — по пьяной прихоти или в надежде подзаработать — свои необыкновенные способности, к утру почти совсем отключился и мог только бормотать что-то невразумительное. Один раз и он попробовал — правда, неудачно. Но теперь он, Казанова, понятливый ученик, ощущает в себе достаточно сил, чтобы сделать то, чего раньше делать не рисковал. Сегодня для него нет ничего невозможного. В самом деле: если напряжением воли удается удвоить физические силы, и даже хрупкие барышни пальчиками поднимают кого угодно, то почему бы ему одному не попытаться подбросить в воздух кого он захочет. Без посторонней помощи.
Поля неуверенно обернулась. И на ее грубоватом лице оставила след усталость. Чего ему еще нужно? На всякий случай поощряюще улыбнулась. Что эта корова себе вообразила? Известно что. Раз он бросил перед ней свой плащ, то конечно же для того, чтобы она на него плюхнулась, раздвинув ноги. Не знает, темная, что такое научный эксперимент. Сейчас узнает. Пусть только встанет на колени и постарается расслабиться. Он даст ей знак, когда будет готов.
Тогда он тоже стоял на коленях, ягодицами опираясь на пятки. Только под ногами было не тонкое сукно, а грязный прибрежный песок. Он был полуживой от усталости после затянувшейся на целую ночь пьянки, но бессвязное бормотание бродяги слушал с любопытством жадной до всего молодости. Эта мерзкая, хотя, видно, когда-то красивая физиономия, слова, половины которых он не понимал, и пальцы, способные заколдовать весь мир, несмотря на грязь под ногтями, одновременно отталкивали и притягивали. Ужасно хотелось спать, но разве не стоило пожертвовать сном, дабы приоткрыть последнюю завесу тайны? Сколько лет назад это было? Пятнадцать, двадцать? Больше. Ему еще и двадцати не исполнилось. Боже. Как давно. А будто вчера. Не вчера — сегодня. Только сегодня он ничего не пил.