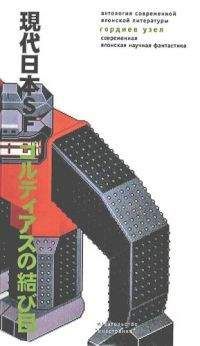Кадзуо Навата - Тигриное око (Современная японская историческая новелла)
Женщина, которая держит путь в одиночестве — редкость, какая же могла быть тому причина?
О-Суги закрыла в чайной ставни и принялась готовить ужин для мужа и кашу для О-Кику.
Чем ближе к ночи, тем сильнее становился ветер. В комнате О-Кику было совершенно тихо, слышался лишь шорох ветвей дзельквы и стук ставни. О-Суги тревожилась о занемогшей в пути и лежавшей теперь в забытьи женщине. Она смотрела на ярко-алое пламя очага, и привычный огонь казался ей до слез дорогим и мирным, заставляя почувствовать себя счастливой.
Трое ее детей умерли в младенчестве от болезней, старший сын девятнадцати лет уже служил на постоялом дворе в Эносима, а дочь, которой исполнилось пятнадцать, ушла ученицей в Фудзисава, в лавку, где делали бобовую пасту мисо,[168] так что заботы дети больше не требовали. Не нужно было теперь и ухаживать за парализованной свекровью. Бабушка О-Фуку, которая знала характер О-Суги и с радостью приняла ее в дом невесткой, сама по натуре была такова, что даже блох бросала в кадку с водой, лишь бы не убивать их. Умирая, она в знак благодарности невестке пыталась сложить перед грудью ладони своих непослушных рук. Уже миновала третья годовщина смерти свекрови.
Муж Кумадзо был на семь лет старше О-Суги. Любитель сакэ и потасовок со своей братией, носильщиками паланкинов, в душе он был человек основательный и уважал О-Суги, словом, был муж как муж. Хотя жили они в бедности, нужды, благодаря чайной, не знали.
О-Суги, которой в следующем году должно было сравняться сорок лет, не бывала даже на богомолье в храмах Ояма, не говоря уж про Эдо. Она ходила иногда на поклонение к богине Бэндзайтэн, в близлежащий храм на острове Эносима, и вполне этим довольствовалась, не помышляя об иных путешествиях.
«Неужели я из тех, про которых говорят „не ведает страстей“?» — вдруг с удивлением подумала про себя О-Суги и, не спуская глаз с очага, сама себе усмехнулась.
Сварив кашу, она отнесла ее О-Кику, но та лишь разок-другой опустила в нее палочки, есть ей совсем не хотелось, и жар по-прежнему не спадал. О-Суги в одиночестве поужинала. Когда вернулся домой подвыпивший Кумадзо, уже совсем завечерело.
Выслушав всю историю про гостью, Кумадзо заглянул в комнатку в три циновки через щель в прорвавшейся бумажной перегородке, и его пьяное красное лицо скривилось в гримасе:
— Что ты будешь с ней делать? Взвалила на себя заботы о больной прохожей…
— Не нужно так громко… — зашептала О-Суги, ухватив мужа за рукав. — Разве можно было поступить иначе?
— Ну, делай как знаешь, а я пошел спать.
На следующий день Кумадзо, как обычно, отправился на работу. После полуночи ветер утих, и теперь на обильно покрывшей землю палой листве белел иней. Ночью О-Суги несколько раз вставала к больной, поила ее отваром, меняла воду в деревянной бадейке и влажное полотенце на лбу. Жар не понизился и к утру, О-Кику была совершенно без сил. После полудня позвали врача, но он только покачал головой, а уходя, сказал, что надо бы поставить в известность чиновника на почтовой станции, чтобы тот сообщил на родину больной.
В чайной были посетители, и О-Суги смогла присесть возле изголовья О-Кику только ближе к вечеру.
Едва приоткрыв глаза, О-Кику потянулась рукой к завернутой в ткань корзинке со своими вещами, стоявшей у постели. Она попыталась подняться, повторяя словно в горячечном бреду:
— Нужно идти, мне надо увидеть Искэ…
— Этого никак нельзя, в таком состоянии… А Искэ-сан живет в Эдо?
Услышав над самым ухом этот вопрос, О-Кику широко открыла глаза и вцепилась в руку О-Суги.
— Я знала, что больна, и все равно пошла. Хотела непременно увидеть Искэ, пока жива, — она слабо улыбнулась.
Из последних сил она принялась рассказывать, и суть этого сбивчивого повествования сводилась к следующему.
В Готэмба, местности, славившейся плетеными бамбуковыми коробами и корзинами, у О-Кику завязалась глубокая сердечная связь с корзинщиком по имени Искэ. Ему был тогда двадцать один год, а ей семнадцать, и они дали друг другу клятву стать в будущем мужем и женой. Когда О-Кику было девятнадцать, Искэ ушел в столицу Эдо, сказал, что там он станет настоящим корзинщиком, а может быть, мастером по плетению коробов, и тогда они непременно заведут свой дом. После этого года три от него еще приходили весточки, а последние пятнадцать лет как отрезало — ни письмеца. И все-таки О-Кику продолжала ждать.
Дней десять назад ветер донес до О-Кику весть, что Искэ плетет короба в мастерской «Ясюя» в квартале Ядзаэмон возле моста Кёбаси. Вот потому-то больная О-Кику, вопреки возражениям близких, одна пустилась в путь.
— Вот эта корзинка… — худыми слабыми руками О-Кику опять потянулась к изголовью, и когда О-Суги развязала ткань дорожного узла, О-Кику принялась поглаживать корзину кончиками пальцев.
— Искэ-сан оставил ее мне, когда уходил в Эдо. Эту корзину сделал он сам. — Женщина на четвертом десятке лет улыбалась, как маленькая девочка. — Мне уже немало лет, а ума не нажила… Так тому и быть… Вы столь милосердны ко мне… И хотя я слегла в пути, и мне уж не подняться, все-таки его корзинка со мной!
— О-Кику-сан, надо потерпеть.
— Простите меня… Причинила вам хлопоты…
Через некоторое время лежавшая с закрытыми глазами О-Кику чуть слышно втянула в себя воздух. Затем прикасавшаяся к корзине рука упала на постель, и дыхание оборвалось. Лучи вечернего солнца, проникающие сквозь затянутые бумагой окна, были красны, как кровь, и, отражаясь на белом лице мертвой женщины, придавали ему скорбную торжественность.
2В корзинке лежало новое с иголочки полосатое мужское кимоно и немногочисленные дорожные вещи О-Кику, помада и прочее. Наверное, кимоно в полоску больная О-Кику в спешке шила для Искэ. Женское сердце, хранившее свое чувство более восемнадцати лет, тоже было с нежностью вложено в это кимоно вместе со стежками.
Поскольку на груди у мертвой О-Кику была подорожная грамота, выданная ее приходским храмом в Готэмба, О-Суги обратилась с просьбой обо всех обрядах к настоятелю близлежащего храма Хонрюдзи. Ведь если странник умирает в пути, то совершение заупокойных служб берет на себя местный храм, он же ставит в известность храм на родине усопшего. О-Суги попросила и вещи О-Кику доставить на родину, однако корзинку и мужское кимоно оставила у себя, надеясь, что когда-нибудь выпадет случай передать это корзинщику Искэ, проживающему в Эдо.
Корзина, которую, по словам О-Кику, сплел Искэ, была без особых затей сработана из тростника судзутакэ, и даже на взгляд О-Суги не казалась мастерски исполненной вещью. Однако О-Кику, видимо, очень дорожила ею и обращалась с ней бережно, так что за много лет даже углы не потрепались. Лишь следы прикосновений бамбук впитал в себя, словно на его поверхность легли янтарным блеском думы О-Кику.
О-Суги ежедневно брала корзинку в руки и, легко касаясь, пробовала поглаживать ее, как это изо дня в день делала покойная О-Кику.
— Ты в последнее время живешь как во сне. Если все из-за той женщины, так пора забыть о ней. Ты все сделала как нужно. Нельзя же непрестанно горевать, ты стала сама на себя не похожа.
Так говорил Кумадзо. Но когда он работал в ночь, то без него О-Суги допоздна слушала шум северного ветра и поглаживала корзину, бормоча сама себе:
— А вот со мной до сих пор не случалось такого, чтобы как у О-Кику-сан — все мысли только об одном человеке.
Это казалось печально-непоправимым. Хотя у нее вовсе не было причин для недовольства мужем Кумадзо.
— Что же за человек этот Искэ-сан?.. Странно, мне скоро сорок, а думаю о таких вещах.
День за днем прошла зима, в конце года и в начале нового в чайной было оживленно от посетителей, паломников на остров Эносима и на гору Ояма. Только после первых семи новогодних дней представилась возможность вздохнуть посвободнее.
О-Суги, которой исполнилось сорок, сказала Кумадзо, что хотела бы сходить в Эдо, хотя бы раз в жизни посмотреть на столицу и помолиться богине Каннон в храме Асакуса,[169] да и корзину эту надо бы, мол, отнести.
— Ну, если после этого ты успокоишься… — сказал Кумадзо и позволил ей пойти в странствие одной. Но это только говорится «странствие», а вообще-то, если не мешкать, можно было одну только ночь заночевать в Эдо, а на следующий день вернуться.
Еще не рассвело, когда О-Суги в дорожном платье вышла из дому, Кумадзо провожал ее. Вскоре под ласковыми утренними лучами ранней весны она уже наслаждалась первым в ее жизни одиноким странствием по дороге Токайдо, мимо почтовых станций Тоцука, Ходогая, Канагава.
Сшитое руками О-Кику мужское кимоно в полоску она положила в корзину работы Искэ, а корзину завернула в узел и приторочила к поясу точно так же, как это делала О-Кику, поэтому к ней пришло легкомысленное ощущение, что это она сама вместо О-Кику идет на свидание с мужчиной.