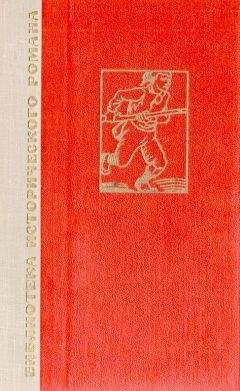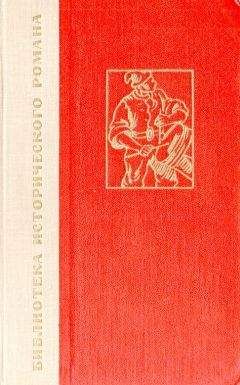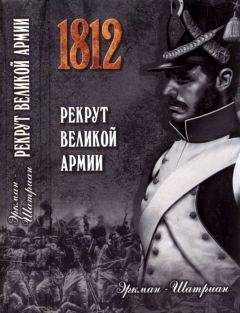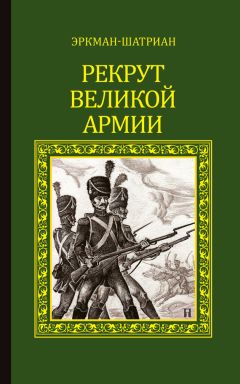Геннадий Прашкевич - Секретный дьяк
Объяснил, дрогнув щекой, дернув правым усом:
«Это далеко. Сам знаешь, что далеко. Это, может, даже дальше, чем думаешь. Это, может, уже Камчатка. Сам определишь. Есть там, маиор, гора из чистого серебра. Лежит серебро прямо под ногами без всякой пользы. Говорят, приплывают к горе апонцы, рубят русское серебро кусками, отщипывают, кто сколько может, а потом жгут костры на серебре, дерзко, без всякого на то соизволения сидят на корточках, любуясь видом на море. Такое апонское баловство следует прекратить. Указанное богатство принадлежит России. Конечно, некому сейчас разрабатывать гору и везти серебро через всю Сибирь, швед проклятый висит на шее, но кончится война, маиор, все нашим будет».
И добавил, страшно дрогнув щекой:
«Узнаю, что заворовал, лично повешу. Мне не жалко, сам знаешь. Жестоко накажу весь род твой. А сделаешь правильно, окажешься в милости, отличу тебя».
И маиор пошел.
В Сибирь. Искать для царя гору серебра.
А думный дьяк Матвеев, прощаясь, сделал маиору напутствие. «Сестру жалко, – сказал. – Ее жизнь пуста без тебя. Только ты себя тем не мучай, я пригляжу за сестрой. Хочу, чтобы ты вернулся. Лучше бы, конечно, вообще не ходить тебе в Сибирь, но на то приказ государя. Он теперь часто будет спрашивать о тебе, никогда в занятости своей не забывает такого. Нетерпелив государь. Непременно шли с дороги отписки. Старайся найти гору. Война кончится, все получишь, маиор, только найди гору. Про нее всякое говорят. Кто указывает на Погычу, на страшный студеный край, а кто наоборот, на реку Вамур теплую. Все проверь. Если придется плыть на юг, начинай плыть от Камчатки. Мне Волотька Атласов говорил, что может быть такая гора. Если, конечно, ее еще не расхитили».
Обнял маиора, расцеловал.
«Дело секретное, помни. Для всех теперь ты отписан в Сибирь, несешь в Сибири государеву службу. А где будешь находиться на самом деле, куда поведут тебя дороги, о том, маиор, должен знать только я. Обо всем буду докладывать лично государю. Совсем секретное дело. Даже якуцкий воевода не должен знать твоих истинных намерений».
И добавил:
«Про обидчиков моих тоже не забывай. При всяком случае спрашивай про убивцев Волотьки Атласова. Не все пойманы, не все наказаны. Именем государя имеешь право вешать воров без суда. Не гнушайся вешать, маиор. Только так можно производить благодатное впечатление. В России, маиор, люди без строгости быстро впадают в блаженство лени и порока».
И встали перед маиором вопросы.
Как ехать? Как определяться в дороге? Как отбиваться от многочисленных разбойников? Как, храня секрет, вовремя получать лошадей, людей? Как сохранить снаряжение, не растерять казенный припас?
Твердо решил: строгостью!
Поддерживая официю, еще до Камня повесил на дереве двух солдат, пристрастившихся к выпивке. Пристрастившись к выпивке, те солдаты тайком начали продавать в селениях казенный припас. В собственных руках держал все бумаги, все деньги, солдаты при маиоре всегда были с ружьями. Время от время заставлял их навинчивать на ружья багинеты и ходить друг на друга в учебный бой на потеху деревенским жителям, сбегающимся к лесным полянам, выбранным для боевой учебы. Поэтому и слава бежала далеко впереди маиора. Приняв строгость за принсип, на станциях уже легко выбивал лошадей. Рост малый, голос сиплый, зато в глазах неукротимость, в карманах казенные бумаги, под рукой четыре, без повешенных, верных солдата, испытанных на войне. За своего маиора те солдаты всегда готовы были обратить багинеты хоть против какого губернатора. По дороге в Сибирь маиор заодно утишал немирные села, от души порол встреченных на дороге ослушников.
Там, где побывал маиор, его долго помнили.
В доме тобольского губернатора увидел на стене картину, на коей спасшиеся русские моряки, стоя на коленях на сыром песке, уныло взирали на то, как горит в море подожженный шведами русский линейный корабль.
Увидев такое, маиор сам заплакал.
Да как могло такое случиться? Да почему горит русский корабль? Где твердые принсипы? Где нечестивый мазила, что придумал такой сюжет? Уж не к шведам ли перекинулся? А главное, видно, что спаслись матрозы на шлюпке. Не бросились подлецы на абордаж, не кинулись на гнусного шведа с топорами и крючьями, а к берегу, подлецы, повернули шлюпку!
В неукротимости, даже в бешенстве бросился маиор на картину. Сабелькой порубил холст в клочья. Губернатор-патриот смеялся с участием, разделяя глубокие чувства маиора. Даже обнял его. Частично по искренности, частично по умыслу, потому что помнил судьбу многих несчастных, даже губернаторов, вот так как бы по случайности впавших в немилость государя. Обнимая маиора, при всех гостях обещал сердечно: на обратном пути, маиор, непременно будет висеть на стене совсем другая картина. И взирать на свои горящие корабли будут на ней шведы.
– А мазилу, маиор, выпорю!
В Илимске неукротимый маиор публично засек казака, укравшего фунт пороху из государева припаса. Это немного нехорошо сказалось на слухах, тем не менее, к маиору приходили разные люди, просились с ним в дорогу. Маиор прямо спрашивал:
– Известно ли вам, куда следует мой отряд?
Ему так же прямо отвечали:
– А как же, знаем.
– Ну-с?
– Искать гору серебра.
– Кто сказал?! – хватался маиор за кафтаны.
– Да все говорят, – отвечали.
В один пасмурный день в Якуцке маиора навестил черный монах.
Маиор в тот день был в особом гневе. Почему-то все знали о секретной миссии его отряда, но почему-то никто не слыхал об убивцах камчатских прикащиков. И к Камчатке маиор все никак не мог выйти. Апонцы, возможно, разнесли уже половину серебряной горы, совсем разбаловались, а он, государев человек, никак не мог сыскать умелых охотников двинуться к известной горе. Приходили всякие, умелых не находилось. Когда монах разложил на столе чертеж дальних островов, маиор сразу спросил:
– Хочешь пойти со мной?
Брат Игнатий вздохнул, постно повел темными глазами, как бы никуда не торопясь, потом сам спросил:
– А сколько людей у тебя, маиор?
Маиор ответил:
– Четыре солдата. Было семь, но двоих повесил за воровство, а еще одного запорол за хищения.
Тогда монах кивнул.
Как затмение нашло с этим монахом.
Доходили до маиора некоторые слухи. Дескать, дерзок брат Игнатий, властолюбив, замечен в странных историях. Но маиор почему-то верил монаху. Жилистый, длинный. Никогда не стеснялся натягивать на рясу кафтан, если следовало заниматься тяжелыми грузами. Вообще не стеснялся подлого дела. Сам взялся набирать нужных людей. Обещал, что найдет людей умелых: и бусу срубят, и сами ее поведут. На вид, может, покажутся суровыми, зверовидными, да кто в Сибири не зверовиден? Правда, люди, отобранные монахом, добирались до Камчатки самостоятельно, но, может, так было проще.
Действительно, как затмение нашло. С некоторых пор маиор стал сильно прислушиваться к монаху. Если кто-то пытался намекнуть, что вот де каков тот монах, и то-то у него не то, и это не так, маиор обрывал намекающего. Ведь сам видел, что опытен зело монах брат Игнатий! Ну, а что у монаха сзади, о том пусть думают в съезжей.
Монах, кстати, не скрывал прошлого.
Сам не раз говорил маиору, что прожил трудную жизнь.
Сам признался, что одно время после казенных служб, после трудных хождений к северу и к востоку, и к югу морем, сильно устал и почувствовал большое желание напрямую послужить Богу. Когда в последний раз ходил на юг Камчатки, дал обещание Господу, что, мол, если вернусь живым, то постригусь. Так и поступил, не обманул. Под Большерецким острожком самолично с несколькими поверившими в его дело казаками связал малую церковку, пошел в послушники, искал любую возможность послужить господу. И когда постригли, отличался особенным послушанием. Тоже сам признался маиору. Истово ходил на молитвы, руками глупо не махал, глядел только под ноги, всегда шел в затылок переднему, дышал плавно. И скоро стал известен. В пустынь к брату Игнатию на Камчатке начали охотно приходить разные люди – послушать святое.
Телеса наши, в гробах согнившие и в прах рассыпавшиеся, возникнут от земли, как трава весною, и по соединению с душами восстанут, и укажутся всему небу перед очами ангелов и человеков, перед очами предков наших и потомков, одни яко пшеница, другие же яко плевелы, ожидая серпов ангельских, и того места, которое назначено, особо для пшеницы, и особо для плевел…
Приходили казаки, приходили промышленные, приходили крещенные инородцы. С изумлением слушали брата Игнатия, дивились – ведь, будучи в миру обычным казаком, он немало жертвовал мяхкой рухляди на нужды церкви. Вот был в казаках неустрашим, и в монахах стал ласков. Видно, насмотрелся слез и бед. Кто бы ни обращался к брату Игнатию, он душевно расспрашивал: как сей божий человек попал на Камчатку? И что привело сего божьего человека на Камчатку? И каким он шел путем, и с каким атаманом, и что встречал на своем пути, и не ходил ли случаем на юг от Камчатки? Расспрашивал, а потом записывал услышанное в специальную тетрадь. Сам, кстати, создал синодик, в который вписал без всяких отступлений имена всех православных, пострадавших на Камчатке за святую божию христианскую веру. И в святой Великий пост, в неделю Правословия, после поминовения благочестивых царей и великих князей, и святейших патриархов, и преосвященных митрополитов, и архиепископов, и епископов, и всего священного собора, князей, и бояр, и всего христолюбивого воинства возглашал каждому павшему на Камчатке, внесенному в синодик, вечную память.