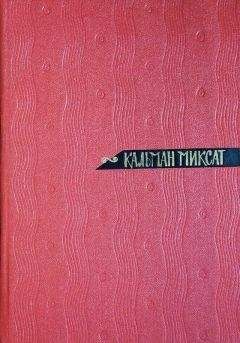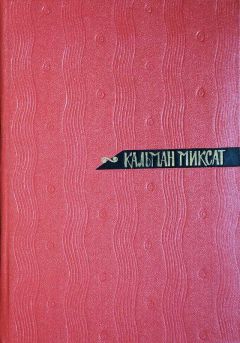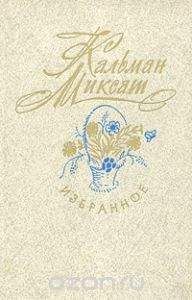Бенито Гальдос - Двор Карла IV. Сарагоса
Это преждевременное ожесточение и погубило их. Им следовало начать с методического разрушения наших фортификаций с помощью артиллерийского огня, сохранять хладнокровие, которого требует осада, и не бросать стрелковые цепи на штурм позиций, защищаемых людьми, с которыми им уже довелось встретиться пятнадцатого июля и четвертого августа; им следовало побороть в себе чувство презрения к противнику, ибо оно всегда — и в дни испанской кампании, и в нынешней войне с Пруссией — служило им дурную службу; им следовало терпеливо приводить в исполнение план, рассчитанный на то, чтобы вызвать у осаженных не воодушевленно, а подавленность. Нет сомнении, что, если бы французы обладали разумом своего бессмертного вождя, побеждавшего не только с помощью пушек, но и своей удивительной логики, они во время осады Сарагосы не преминули бы принять во внимание человеческую психологию, без изучения которой война, жестокая война, является — увы! — всего-навсего бессмысленной варварской бойней. Наполеон, с его необычайной проницательностью, разгадал бы характер сарагосцев и не стал бы бросать против них ничем не прикрытые колонны солдат, кичащихся своей храбростью. Подобные атаки — слишком трудное и опасное занятие, особенно если их отбивают люди, которые сражаются не за идола, а за идеалы.
Не стану входить в подробности кровопролитного сражения двадцать первого декабря, одного из самых славных в истории второй осады столицы Арагона. Я избегаю быть слишком многоречивым не только потому, что я не принимал непосредственного участия в этой битве и могу рассказать о ней только с чужих слов, но и по другой причине: мне предстоит еще поведать о столь многих интересных встречах, что будет весьма уместно проявить некоторую сдержанность в описании кровавых эпизодов. Поэтому я ограничусь лишь упоминанием о том, что уже к вечеру французы решили отказаться от своего намерения и отступили, оставив на поле боя множество трупов. Было, казалось, самое время двинуть в бой кавалерию и начать преследование неприятеля, но после короткого совещания наши начальники, как известно, решили не рисковать, потому что вылазка могла кончиться для нас плохо.
VII
Когда наступила ночь и часть наших войск отошла в город, сарагосцы хлынули в предместье, чтобы осмотреть поле боя, взглянуть на причиненные огнем разрушения, сосчитать убитых и представить в своем воображении героические сцены недавнего сражения. Воодушевление, толчея и шум в этой стороне города были поистине неописуемыми. Толпы солдат лихорадочно и возбужденно горланили песни, сострадательные люди, собравшись кучками, перетаскивали к себе домой раненых, и всюду царило глубокое удовлетворение, выражавшееся в оживленных разговорах, вопросах, хвастливых возгласах, в слезах и смехе, в странном смешении восторга и веселости.
Часам к девяти наш батальон распустили: у нас не было казарм и в периоды затишья нам разрешалось на несколько часов покидать свой пост. Мы с Агустином побежали к собору Пилар и с трудом протолкались внутрь храма, где уже столпилось множество народу. Я был поражен, увидев, как отчаянно пробивались богомольцы, отпихивая друг друга, к внутренней часовенке, в которой находилась статуя пресвятой девы Пилар. Молитвы, жалобы и благодарственные возгласы сливались в один сплошной гул, мало чем напоминавший обычное молебствие. Это был скорее некий долгий разговор прерываемый рыданиями, стонами, нежными возгласами и другими выражениями искренней и наивной веры, которую испанцы питают обычно к милым их сердцу святым. Люди опускались на колени, целовали пол, хватались за решетку часовни и обращались к изображению богоматери с самыми задушевными и взволнованными словами, какие только знает язык. Те, кому не удавалось протиснуться к статуе, протягивали к ней руки и взывали издалека. Никто из причетников даже не пытался воспрепятствовать столь неподобающему поведению и неуместным выкрикам, потому что все это было лишь следствием чрезмерной, доходящей до безумия набожности. Под сводами храма отнюдь не царила торжественная тишина, приличествующая святости места: люди чувствовали себя так, словно находились дома, словно приют возлюбленной пресвятой девы, матери, владычицы и покровительницы сарагосцев, стал в то же время пристанищем ее детей, слуг и подданных.
Пораженный такой одержимостью, которая в этих людях казалась совершенно естественной, я протиснулся к решетке и увидел знаменитое изображение пресвятой девы. Кто не видел его, кому не известно оно хотя бы по бесчисленным статуэткам и гравюрам, распространенным по всему полуострову, от края его и до края? В ту пору, как, впрочем, и поныне, статуя стояла в украшенной с восточной роскошью нише, слева от небольшого алтаря, возвышавшегося в глубине часовенки. Ее освещало множество восковых свечей, и драгоценные камни на одежде и короне богоматери ослепительно сверкали. На голове у ней блестел золотом и бриллиантами венец, на груди — ожерелья, на руках — перстни. Живой человек, несомненно, рухнул бы под тяжестью стольких сокровищ. Из-под жесткого одеяния без складок, натянутого сверху вниз, как чехол, едва выглядывали руки; смуглое личико Иисуса, лежащего на левой руке богоматери, было почти незаметно среди парчи и драгоценных камней. На лике пресвятой девы, отполированном временем и тоже смуглом, застыла безмятежная умиротворенность, знак вечного блаженства. Глаза ее были обращены на собравшихся, словно она пытливо всматривалась в набожную толпу; в зрачках сверкали отсветы горящих свечей, и этот блеск придавал ее взору подлинно человеческую осмысленность и пристальность. Тому, кто видел ее впервые, да еще в минуту подобного религиозного экстаза, было почти невозможно остаться равнодушным и не присоединить свой голос к восторженному хору, на все лады восхвалявшему царицу небесную.
Я все еще глядел на статую, когда Агустин сжал мне руку и шепнул:
— Видишь? Вон она.
— Кто? Богоматерь? Я давно ее вижу.
— Да нет же, Марикилья. Видишь ее? Вон она, напротив нас, у колонны.
Я взглянул, увидел лишь скопище людей, и мы стали проталкиваться на другую сторону храма.
— Дядюшки Кандьолы здесь нет, — весело объявил Агустин. — С ней только служанка.
Все это мой друг сказал на ходу, отчаянно прокладывая себе дорогу локтями, толкая людей и в грудь и в спину, отдавливая им ноги, сплющивая шляпы и сминая платья. Я следовал за ним, нанося не меньший урон соседям справа и слева. Наконец мы добрались до девушки, и я собственными глазами убедился в том, что она действительно была красавицей. Мой добрый и страстно влюбленный друг нисколько не преувеличивал: Марикилья стоила того, чтобы потерять из-за нее голову. Она пленяла взор смуглой бархатистой кожей, необычайно черными глазами, удивительно правильным носом, несравненным ртом и прекрасным, хоть и невысоким, лбом. Ее лицо и стройный, легкий стан словно дышали самозабвенной страстью; стоило ей опустить глаза, и уже казалось, что на ее фигуру падает нежная и ласковая тень, которая будто обволакивает и нас. Она спокойно улыбалась, но, когда мы приблизились, в ее взгляде мелькнул испуг. Все в ней выдавало женщину с сильным характером — скрытную, сдержанную, но страстную. С первой же минуты Марикилья показалась мне девушкой неразговорчивой, чуждой всякого кокетства, не умеющей притворяться, и впоследствии я имел возможность убедиться в верности своего суждения. Черты красавицы выражали невозмутимое спокойствие и уверенность в себе. В отличие от большинства женщин, лишь немногим из которых свойственно постоянство, она менялась редко, но уж если менялась, то всерьез. Обычно женщины, впечатлительные и податливые, как воск, тают от самого легкого жара; душевный же мир Марикильи, словно отлитой на прочнейшей стали, могло нарушить лишь самое неистовое пламя; но когда такая минута наступала, девушка становилась похожа на расплавленный металл, который обжигает всякого, кто к нему прикоснется.
Внимание мое привлекли не только ее красота, но и наряд, изящный и в известной степени даже роскошный. Наслышавшись россказней о чудовищной скаредности дядюшки Кандьолы, я предполагал, что дочь его ходит в отрепьях и даже не мечтает о модных туалетах и шляпках. Но я ошибался. Агустин Монторья рассказал мне потом, что этот архискупец не только тратился на свою дочь, но даже делал ей время от времени подарки, казавшиеся ему non plus ultra[25] расточительности. Кандьола, не моргнув глазом, дал бы умереть с голоду своим ближайшим родственникам, но, как только дело касалось дочери, проявлял поистине изумительную, феноменальную готовность тряхнуть мошной. При всей своей жадности он оставался отцом и любил, вероятно, даже очень любил, несчастную девушку, щедрость по отношению к ней была первой и, быть может, единственной отрадой его бесцельного существования.