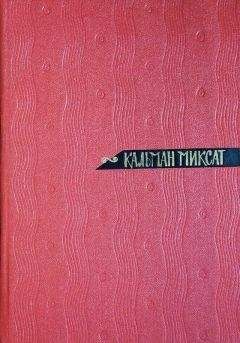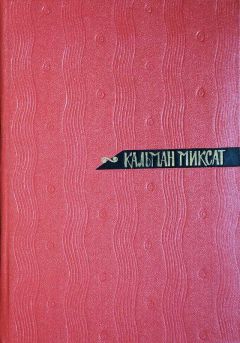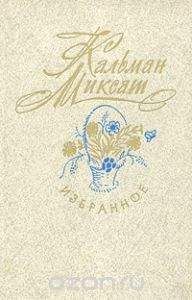Бенито Гальдос - Двор Карла IV. Сарагоса
— И у этого дядюшки есть дочка?
— А ты не торопись. Экий ты нетерпеливый! Откуда ты знаешь, есть у него дочь или нет? — ответил мне Агустин, маскируя этими отговорками свое смущение. — Как я тебе уже сказал, дядюшку Кандьолу ненавидят в городе за безмерную скупость и бессердечие. Он разорил и упрятал в тюрьму немало бедняков. Во время первой осады он не дал ни гроша на оборону, не взялся за оружие, не принял в дом раненых, и никому из него даже песеты выжать не удалось. А когда он однажды сказал, что ему все едино — что француз, что испанец, патриоты чуть не разорвали его на куски.
— Нечего сказать, хорошая птица живет в этом доме с воротами темно-коричневого цвета! А что будет, если я брошу камешек в окно, а из дому выскочит дядюшка Кандьола с дубиной да угостит меня ею за шашни с его дочкой?
— Перестань паясничать и помолчи. Ты ведь еще не знаешь, что, как только стемнеет, Кандьола запирается у себя в подвале и до полуночи пересчитывает деньги. В такое время он ни о чем другом думать не в состоянии?.. Соседи уверяют, что даже до них доносятся порой легкий стук и позвякивание, словно золотые унции сыплются из мешков.
— Ладно. Я прихожу, бросаю камень, жду; она выходит, и я ей говорю…
— Ты ей говоришь, что я погиб… Нет, это будет слишком жестоко. Ты просто отдаешь ей эту ладанку… Нет, ты ей скажешь… Нет, лучше не говори ей ничего.
— Итак, я отдаю ей ладанку…
— Не надо, не отдавай ей ладанку.
— Ага, теперь понял. Как только она выйдет, я желаю ей доброй ночи и ухожу, распевая: «Сказала святая дева Пилар…»
— Нет, пусть она лучше не знает о моей смерти. Словом, сделаешь ты так, как я тебя прошу?
— Но ты же ни о чем меня не просишь.
— А ты не спеши. Может быть, меня и не убьют.
— Понятно. Много шуму из ничего!
— Габриэль, со мной творится что-то странное, и я должен все тебе рассказать. Мне очень хочется открыть тебе тайну, которая камнем лежит у меня на душе. Кому же доверить ее, как не тебе, моему другу? Если я не поделюсь ею с тобой, сердце мое разорвется на части. Я боюсь проговориться о ней ночью, во сне, и этот страх не дает мне спать. Если мой отец, мать или брат все узнают, они меня убьют.
— А семинарские наставники?
— О них уж и вовсе не напоминай! Вот слушай, что со мной произошло. Ты знаешь падре Ринкона? Он, понимаешь ли, очень меня любит. Каждый вечер он брал меня с собой на прогулку, и мы отправлялись с ним по берегу Эбро, или в сторону Торреро, или по дороге на Хусливоль. Разговаривали мы о богословии и литературе. Ринкон большой поклонник великого Горация и любил повторять: «Какая жалость, что этот римлянин не был христианином и его нельзя канонизировать!» Он всегда носил с собою маленькое его издание, подлинный Эльзевир, который берег как зеницу ока, и когда мы уставали, падре Ринкон садился, читал вслух и потом рассуждал о прочитанном… Так вот, знай, что падре Ринкон приходится родственником донье Марии Ринкон, покойной жене Кандьолы, и что по дороге на Монсальбарву у этого ростовщика есть жалкая «башня» — не загородный дом, а нечто вроде лачуги, но зато окруженной густыми деревьями и с прелестным видом на Эбро. Однажды вечером, прочитав «Quis multa gracilis te puer in rosa»[23], мой учитель неожиданно возымел желание навестить своего родственника. Мы направилась к его дому, вошли в сад, но Кандьола куда-то отлучился. Навстречу нам вышла его дочь, и падре Ринкон сказал ей: «Марикилья, угости-ка этого юношу персиками, ну а мне поднеси рюмочку сама знаешь чего».
— А Марикилья красива?
— Красива ли она? Не спрашивай — сам увидишь…
Падре Ринкон взял девушку за подбородок, повернул лицом ко мне и сказал: «Сознайся, Агустин, что ты еще никогда не видел лица прекраснее, чем это. Посмотри, какие у нее жгучие глаза, какой ангельский ротик и небесное чело!» Я задрожал, Марикилья зарделась, как заря, и рассмеялась, а падре Ринкон продолжал: «Тебе, будущему отцу церкви и примерному юноше, знающему лишь, одну страсть — к книгам, не страшно показать эту божественную красоту. Восхитись же сим восхитительным творением всемогущего. Взгляни на это лицо, кроткие очи, прелестную улыбку, нежные уста, бархатные ланиты, стройный стан и согласись, что как ни прекрасны небо и цветы, горы и солнечный свет, все эти чудеса господни меркнут в сравнении с женщиной, самым совершенным и законченным созданием божией десницы».
Так сказал мне мой учитель, а я изумленно и безмолвно любовался этим неповторимым перлом творения, который, несомненно, был куда прекраснее «Энеиды». Не могу передать тебе, что я тогда испытывал. Предстань себе на минуту, что Эбро, эта великая река, несущая свои воды от Фонтибре и впадающая в море у Альфакес, вдруг остановила свой бег и потекла вспять к Астуриас де Сантильяна. Нечто подобное происходило и в моей душе. Я поражался самому себе, чувствуя, что моим неторопливым раздумьям пришел конец и мысли мои поворачивают бог знает куда. Повторяю тебе, я был совершенно поражен и до сих пор не перестаю поражаться. Я смотрел на девушку и сознавал, что взоры мои и душа непреодолимо тянутся к ней. Я твердил про себя: «Я люблю ее так, как еще никто никогда не любил. Почему я понял это только сегодня?» А ведь в тот день я увидел ее впервые.
— А что стало с персиками?
Марикилья стояла передо мной, смущенная не меньше, чем я. Падре Ринкон заговорил с садовником об ущербе, который причинили усадьбе французы (это происходило в начале сентября, через месяц после снятия первой осады), а мы с Марикильей остались наедине. Наедине! Первым моим желанием было броситься бежать, того же хотелось и Марикилье — она сама потом мне в этом призналась. Но мы не убежали. Неожиданно я почувствовал огромный и необъяснимый душевный подъем. Я прервал молчание и заговорил. Сперва речь шла о вещах банальных, но вскоре мне пришли в голову мысли, которые, по моему разумению, выходили за рамки обыденного, и все эти мысли я высказал ей. Марикилья отвечала немногословно, но глаза ее были красноречивее моих рассуждений. Наконец падре Ринкон окликнул нас, и мы собрались уходить. Я попрощался с девушкой и шепнул ей, что скоро увижусь с ней вновь. Мы направились в Сарагосу. Мы шли по дороге, и деревья, Эбро, купола церкви Пилар, городские колокольни, прохожие, дома, глинобитные стены, мостовая, шум ветра, даже бродячие собаки — все, ах, все казалось мне теперь иным. Все изменилось — и небо, и земля. Мой добрый учитель опять стал читать Горация, а я сказал ему, что Гораций никуда не годится. Падре Ринкон чуть не растерзал меня за это и пригрозил, что лишит меня своей дружбы. Я же восторженно хвалил Вергилия и повторял его знаменитые строки:
…Est mollis flamma medullas
interia, et tacitum vivit sub pectore vulnus.[24]
— Но все это было в начале сентября, — перебил я. — А что произошло потом?
— С того дня началась новая жизнь. Меня охватила жгучая тревога, я лишился сна, мне опротивело все, кроме Марикильи. Отчий дом — и тот стал мне отвратителен, и я бродил по окрестностям города в надежде, что одиночество вернет мне душевный покой. Я возненавидел семинарию, книги, богословие, а с наступлением сентября, когда меня попробовали опять заставить жить взаперти, я прикинулся больным и остался дома. Сейчас война, мы все превратились в солдат, и благодаря этому я могу жить свободно, выходить на улицу в любое время, даже ночью, а значит, часто видеться и разговаривать с Марикильей. Я подхожу к ее дому, даю условный сигнал, она спускается вниз, открывает решетчатое окно, и мы подолгу простаиваем около него. Мимо идут прохожие, но я до самых глаз закутан в плащ, и он, равно как и темнота, скрывает меня от любопытных взоров. Оттого-то местные молодые люди и спрашивают до сих пор друг друга: «Что это за поклонник завелся у Кандьолы?» Несколько дней тому назад, опасаясь, что нас застанут, мы прекратили ночные разговоры у оконной решетки. Теперь Мария спускается в сад, отпирает калитку, и я вхожу. Там нас никто не заметит: дон Херонимо, полагая, что дочь его спит, уходит к себе пересчитывать деньги, а старая служанка — другой в доме нет — на нашей стороне. Мы одни в саду, мы садимся на каменную лестницу и сквозь просветы в темной кроне раскидистого тополя смотрим на ясную луну. В торжественной ночной тишине наши души сливаются с божеством, и мы чувствуем, как в нас происходит нечто, невыразимое словами. Наше счастье столь велико, что порою становится нестерпимой мукой. И если у нас бывают минуты, когда нам хочется, чтобы у нас стало сто сердец, потому что нам мало одного, то случаются и такие мгновения, когда мы страстно жаждем уйти из мира. Так мы проводим целые часы. Позавчерашнюю ночь я пробыл в саду почти до рассвета: я сказал родителям, что назначен в караул, и мог не торопиться домой. Когда мы расстались с Марикильей, уже занималась заря. Над садовой оградой виднелись крыши соседних домов и шпиль Новой башни. Указав на него, Мария промолвила: