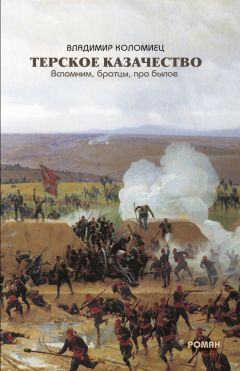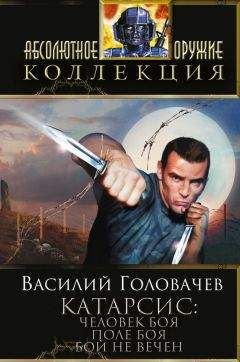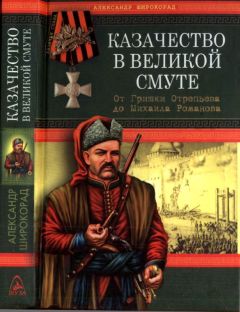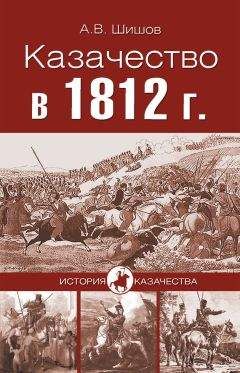Александр Барков - Денис Давыдов
А 13 октября того же года Давыдов спешит сообщить Пушкину, что волею судьбы он уже совсем переселился в Москву и живет теперь на Пречистенке, в собственном доме: «...Слышу, что вышел 3 номер «Современника», в котором и Партизаны мои, и Башилов (т.е. «Челобитная». – А. Б.) – пожалуйста, присылай мне скорее этот номер, дай взглянуть на моих детищ, да не забудь прислать и пострадавшую в битве с цензурою (имеется в виду очерк «Занятие Дрездена». – А. Б.), ты давно мне это обещал, мне рукопись эта и потому нужна, что нет у меня черновой, черт знает куда делась». Заключает это письмо трогательная просьба Давыдова: «Поцелуй от меня Вяземского и Жуковского».
С великим трудом Пушкину удавалось вызволять сочинения «Дениса-храбреца» из пут «умогасительной цензуры» как гражданской, так и военной, и печатать их в «Современнике» и «Литературной газете».
О трагической смерти Пушкина после дуэли на Черной речке Давыдов услышал впервые от Баратынского. Весть эта прямо-таки сразила гусара: он почувствовал острые боли в груди, удушье... и слег в постель. Потрясенный до глубины души, Денис Васильевич писал Вяземскому в Петербург 3 февраля 1837 г.: «Милый Вяземский! Смерть Пушкина меня решительно поразила, я по сию пору не могу образумиться... Пожалуйста, не поленись и уведомь обо всем с начала до конца, и как можно скорее.
Какое ужасное происшествие! Какая потеря для всей России!.. Более писать, право, нет духа. Я много терял друзей подобною смертию на полях сражений, но тогда я сам разделял с ними ту же опасность. Тогда я сам ждал такой же смерти, что много облегчает, а это Бог знает какое несчастие! А Булгарины и Сенковские живы и будут жить, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти».
Вяземский ответил потрясенному другу обстоятельным письмом, где рассказал в подробностях о дуэли Пушкина и тех настроениях, которые царят в Петербурге после кончины великого поэта: «...Смерть его произвела необыкновенное впечатление в городе, то есть не только смерть, но и болезнь и самое происшествие. Весь город, во всех званиях общества, только тем и был занят. Мужики на улицах говорили о нем. Я недавно спросил у своего извозчика, жаль ли ему Пушкина? «Как не жалеть, – ответил он мне, – все жалеют...»
В.А. Жуковский, так же, как и Вяземский, ближайший и преданнейший друг Пушкина, с глубокой скорбью поведал о его последних минутах, свидетелем которых ему довелось быть: «...Когда все ушли, я сел перед ним и долго, один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась, руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха, после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу, это не было также и выражение поэтическое. Нет! Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну!.. Таков был конец нашего Пушкина». И добавим от себя: таковым явился Александр Сергеевич во врата вечности.
Спустя месяц Давыдов вновь изливает свою горькую душевную скорбь Вяземскому по поводу безвременной утраты: «Я все был не здоров, мой милый Вяземский. Веришь ли, что я по сию пору не могу опомниться, так эта смерть поразила меня. Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был и виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою, подобно смерти Пушкина».
Горько скорбя вслед за Денисом Давыдовым о столь тяжкой потере «солнца нашей российской поэзии», Гоголь сказал в своем знаменитом Слове о том, что Пушкин есть единственное и чрезвычайное явление русского духа: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным, это право решительно принадлежит ему... это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.
Самая жизнь его – совершенно русская».
А вслед за Гоголем к «единственному и чрезвычайному явлению русского духа», заключенному в имени Пушкина, Достоевский провидчески добавил еще: и пророческое.
Сполна испив горькую чашу войны, Давыдов считал, что, прежде чем писать о грозной сече и жарких баталиях, поэту самому надобно понюхать пороху, окунуться в бурю и шторм, которые бы били и швыряли в пучину его «поэтическую лодку».
Деды, помню вас и я,
Испивающих ковшами
И сидящих вкруг огня
С красно-сизыми носами!
Но едва проглянет день,
Каждый по полю порхает,
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.
Конь кипит под седоком,
Сабля свищет, враг валится...
Бой умолк, и вечерком
Снова ковшик шевелится.
Денис Давыдов не случайно подчеркивал, что «не принадлежал ни к какому литературному цеху». И тем не менее всю свою жизнь он был близок именно к «арзамасцам» – пушкинской поэтической плеяде и к пушкинскому окружению.
После Отечественной войны 1812 года в России родилась живая, полнокровная, доступная широкому кругу людей проза Карамзина, а стихи Дмитриева явились событием в русской поэзии. Подлинный переворот, свершенный в литературе и языке прежде всего Карамзиным, встретил яростных противников в лице фанатичных приверженцев старины во главе с небезызвестным адмиралом Шишковым, пользовавшимся большим влиянием в высшем свете. Для обуздания новшеств в литературе Шишков основал общество «Беседы любителей русского слова».
В оппозицию «Беседам» образовался кружок «Арзамас». В нем объединились литераторы, связанные меж собой узами дружбы и вступавшие в борьбу с устаревшими вкусами и традициями в литературе.
Любопытна история, которая положила начало объединению арзамасцев. Молодой поэт Блудов сочинил шутку: «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей». Местом действия шутки был город Арзамас. Творение Блудова восторженно приняли его приятели. Они решили назвать свой кружок «арзамасской академией» или проще «Арзамасом». Участники кружка наделялись забавными прозвищами, заимствованными из баллад Жуковского (Пушкин – Сверчок, Батюшков – Ахилл, Вяземский – Амодей, Жуковский – Светлана и т.д.). Словом, «Арзамас» являл собой школу взаимного литературного обучения и товарищества, на его заседания приходили люди разных возрастов и дарований, здесь звучали хлесткие пародии, едкие сатиры и эпиграммы на высокомерных «шишковистов».
В 1815 году Денис Давыдов избирается в члены «Арзамаса» с прозвищем «Армянин». Вместе с Пушкиным и Вяземским он представляет в Москве отделение арзамасского кружка. После распада «Бесед» полемика с шишковистами закончилась, и в 1818 году «Арзамас» распался.
Впоследствии Петр Андреевич Вяземский не раз тепло вспоминал «Арзамас»: «Мы уже были арзамасцами между собою, даже когда «Арзамаса» еще и не было».
В подмосковном имении Вяземского Остафьеве, заветном уголке духовности и литературы, «раю сердечных воспоминаний», бывали многие знаменитости тех лет: Пушкин, Баратынский, Языков, Трубецкой, Давыдов, Толстой-Американец, Муханов, Четвертинские... В письме Плетневу Вяземский с гордостью писал: «Пушкин был у меня два раза в деревне, все так же мил и все тот же жених...»
На Дениса Давыдова Остафьево произвело большое впечатление: «На пригорке при подъезде к селу возвышался громадный барский дом в несколько этажей. Его было видно за три версты. По низу, за луговиною, синело зеркало большого пруда. Чуть в стороне от пруда лебедушкой белела церковь, летом и осенью осененная густыми тенистыми липами.
На противоположной стороне от барского дома шелестел листвою необъятный сад, светилась березовая роща, где гулял Карамзин с думами об Истории».
Вяземский показал Денису Давыдову комнату Николая Михайловича Карамзина: «...В этом святилище Русской истории, в этом славном затворе, где двенадцать лет с утра до вечера сидел... знаменитый наш труженик над египетской работою, углубленный в мысли о великом своем предприятии, где он в тишине уединения читал, писал, тосковал, утешался своими открытиями, куда приносились к нему любезные тени – Нестеров, Сергиев, Сильвестров, Авраамиев, где он беседовал с ними, спрашивал о судьбах Отечества, слышал внутренним слухом вещий их голос и передавал откровения златыми устами своими...»