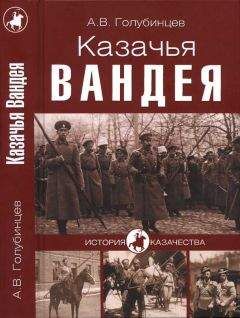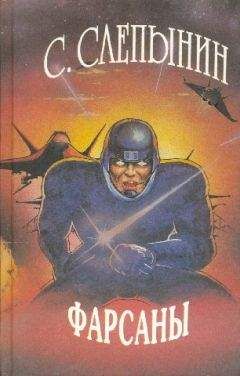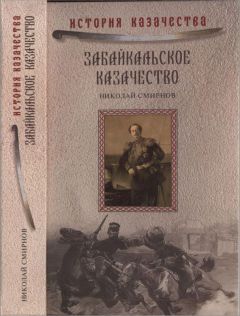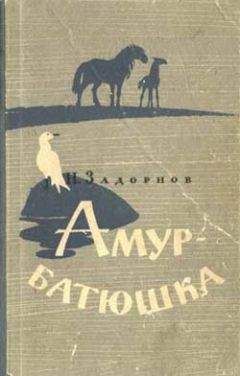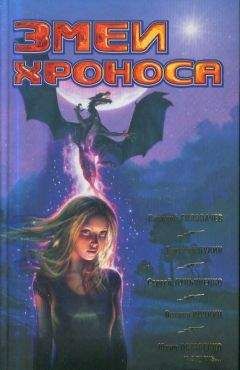Григорий Хохлов - Доля казачья
Весело двигался ко мне Штырь, пританцовывая на своих кривых ногах. И ему очень захотелось услужить своему вожаку. Я уже делал всё автоматически.
Гулко ёкнула татуированная грудь Штыря от моего удара. И всем показалось, что она развалилась от такого резкого напора кулака. Не выдержала его. На глазах тот начал синеть и рухнул, как сноп на заплёванный пол камеры.
— Бей его! — послышался приказ главаря.
А дальше пошла моя привычная работа казака-пластуна. Всё было понятно и продуманно, как в бою. Хрустели сломанные ноги и руки матёрых уголовников. Пока я совсем разъярённый, как тигр, не добрался до неожидавшего такого хода событий самого Котла.
И всё же успел ехидно хмыкнуть уголовник, и он был уверен в себе, силён, как бык, да ещё при своем любимом оружии — заточке. Не одну он глотку порезал за всю свою жизнь, а сколько душ загубил, никто того не знает. Заелозил он под моими руками и захотел вырваться, но тут же взвыл от нестерпимой боли. Из моего захвата руки и лошадь не могла вырвать ногу. Не то что вырваться такому подонку, как он. Я бил его мерзкой рожей об замызганную стенку камеры, пока она не стала вся в его крови. Затем потащил его к параше.
— Ты хотел опозорить атамана и всех казаков русских, пей, скотина, помои. И помни, что и ты под Богом ходишь, и тебе придётся теперь другим прислуживать. Потому что ты уже никто, ты уже хуже скотины стал.
А чтобы ты больше никому не угрожал своим оружием, я твой бойцовский пыл поумерю.
Ловким приёмом я сместил все его шейные позвонки, теперь их не один врач не поправит, и любое движение противника будет вызывать дикую боль во всём теле.
— Запомни, что я русский казак! Я могу, шутя, все твои позвонки в твои подштанники россыпью высыпать. И всю твою рожу по камере, вместе с тобой, размазать.
Залетели в камеру конвоиры и оторопели, как такое может быть, уму непостижимо, чтобы с такой оравой уголовников одному человеку справиться.
— Это что вам, больничный лазарет здесь или образцовая камера? — кричит во всю глотку старший надзиратель. И он бледен от такой неожиданной картины побоища, его неожиданного результата.
Но и он не смог перекрыть жуткий вой и вопли, исходящие из изломанных тел уголовников.
Затем подошёл к Котлу и сам пнул в его размазанную рожу своим лакированным, фасонистым сапогом.
— По делу тебе, голубок, испробуй и ты свою долю до конца, не всё тебе верховодить здесь, да бунты устраивать.
Не поленился он и смачно плюнул в то, что осталось от лица Котла. И его же, рубашкой принялся наводить глянец на своих сапогах. И у него были свои личные счёты с Котлом, и вот настал долгожданный час возврата долгов.
— Кого добить, кого в больничку, а Бодрова к следователю.
Сортируйте всех!
Не знали уголовники, кого из них будут добивать, и ужас овладел всеми ими. И, похоже было, что там начиналась повальная, предсмертная истерика, паника!
Меня вытолкали в коридор и скоро увели к следователю Таболкину. И, похоже было, что он уже ждал меня.
— Не ожидал я от тебя такой прыти, атаман, а с большим числом уголовников ты бы смог справиться? Или ты уже всё показал, что ты можешь делать.
Я подошёл к его столу и взял со стола листок бумаги, и моментально загнул его в трубочку. И уже этим остриём насквозь проткнул лежащее на столе яблоко.
— Я мог бы также свободно проткнуть горло любого врага или лишить его зрения.
Затем взял другой чистый листок, подержал его развернутым, и уже, как ножом, порезал яблоко на части.
— Я мог бы с таким же успехом перерезать любое горло.
— И моё горло, тоже? — не вытерпел восхищённый Таболкин.
— Я себе такой цели не ставил, — ответил я уклончиво.
— Ты будешь жить, ты достоин этого. Я как смогу, так и помогу тебе, Григорий Лукич. Я верю, что ты хорошо воевал во всех войнах, и чести своей нигде не замарал. У тебя, Григорий, везде в документах расстрел стоит, а у сына твоего пятнадцать лет обозначено выселок.
Так я вам обоим сделаю одинаково, это всё, что я могу сделать для вас, Григорий Лукич. На большее деяние и я не способен, я не Господь Бог. Сына твоего, Романа, тоже арестовали, недолго он был в бегах. Кого надо было, то всех мы достали, ни про кого не забыли. И Шохирев Василий тоже арестован. Одного отца твоего, Луку Васильевича, мы не тронули. Никто не посмел опорочить его доброе имя. У нас такое редко бывает, перекос вышел, не в ту сторону.
Прощай атаман! Такие люди, как ты, ко мне редко попадают.
Судила нас мрачная от крови «тройка», из трёх человек, так в народе назывался специально созданный суд для таких горемык, как я. Почти моментально они выносили свои жестокие приговоры: расстрелы и огромные срока в виде двадцати пяти лет лишения свободы. Расстрелы немедленно приводились в исполнение, и тут же, в пригороде Хабаровска, трупы расстрелянных людей закапывали. Не было там ни крестов ни других обозначений, одно большое захоронение, как скотомогильник. Просто где-то в тюремных архивах отмечалось, что приговор приведён в исполнение, нет человека! С интересом посмотрели на меня мои судьи, был там и Таболкин.
— Только из уважения к вам и к вашим революционным заслугам, Иван Иванович Таболкин, мы здесь, все собравшиеся, единогласно идём вам на уступки. И смягчаем приговор, как необоснованный.
Пятнадцать лет вам, гражданин Бодров Григорий Лукич, выселок в Хорский леспромхоз. И сочтите это за великое счастье, что к вам так нежданно привалило.
После первого массового ареста многие казаки не стали ждать своей очереди, а сами подались в бега. Но недолго это продолжалось, всех кого новая власть хотела осудить, те и были осуждены.
Пострадали и Шохиревы, наши ближайшие родственники. В ту пору Бодровы уже дважды породнились с ними. Шохирева Петра Васильевича сын, Михаил, женился на моей дочери Елизавете. А мой сын, Роман, женился на дочери Александра Васильевича Шохирева Федосье. Трудно сказать, чья же фамилия больше пострадала. В любом случае Шохиревы пострадали не меньше от произвола властей, чем Бодровы. Хотя так вопрос у нас в родне никогда не ставился, мы всегда жили одной большой семьёй.
И только это помогло нам выжить в лихолетье. Всё, что происходило тогда, трудно было иначе назвать.
Выселки
Роман резко отличался от всех моих сыновей, и по фигуре своей и по характеру. Его сухопарый вид тела приводил незнающих людей в недоумение: или болен он сейчас, или такой больной родился.
Но здоровый цвет лица никак не говорил о его болезни. А тем более весёлая и добрая улыбка на его лице. Пробовали его обзывать доходягой, но это всегда плохо кончалось для обидчиков.
Роман спокойно подходил к такому умному хлопцу, сноровисто брал его за ноги, поднимал и переворачивал в воздухе. И тот, в одно мгновение, как ни барахтался, тот уже висел головой вниз.
— Ну как, Москву видать? — весело спрашивал Роман своего обидчика.
Он никогда не был агрессивен при своей невидимой силе. Весь витой, как корень берёзы, и жилистый. Он был всегда очень добрым, и любил пошутить. И ещё очень он любил играть на гармошке. Вот тут, в его игре на этом дивном инструменте, ему не было равных соперников среди станичных гармонистов. Только заиграет он на своей гармошке, все станичные девушки и парни сразу же, пулей летят туда.
— Это Ромка нас к себе зовёт петь да танцевать, ох, и весело там будет! А тут что-то скучно у вас, фасон не тот!
Когда Романа привели на суд, то там что-то напутали и чуть двадцать пять лет тюрьмы ему не припаяли. Побледнел тогда сынок мой лицом и спрашивает судей.
— За что?
Тогда такие вопросы добром не кончались, но на этот раз обошлось и дали пятнадцать лет выселок, как и планировалось. Разобрались! Были там люди из арестованных, которые рыдали от счастья, что им не дали расстрел, а всего лишь, двадцать пять лет тюрьмы.
Странно всё это было слышать, но он уже хорошо понимал тогда, что это действительно счастье, жизнь, хоть и самая безрадостная, всё же дороже стоит. На пересыльном пункте в поселке Волочаевке, за который когда-то шли ожесточённые бои. И я сам там воевал за Советскую власть.
Красногвардейцы штурмовали хорошо укреплённую сопку Юнь-Корань, последний хорошо укреплённый оплот Белой армии на Дальнем Востоке. Именно здесь Роман видел знакомые вещи уже расстрелянных людей, с которыми он раньше встречался. Вещи готовились к дезинфицированию. А их хозяев уже приняла мать-земля, они пережили человека. И возникал закономерный вопрос: что же ждёт меня, может, то же самое?
В тридцать четвёртом году нам разрешили работать вместе, в Оборском леспромхозе, и мы встретились там с Романом. Горько мне было осознавать, что человек ни за что страдает, и именно мой сын. Что он мог сделать тогда в свои семь лет? Какое там нападение на пароход, глупость какая-то, не иначе. Но чувство вины всё равно осталось, не избавиться от неё.