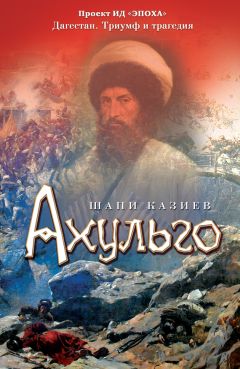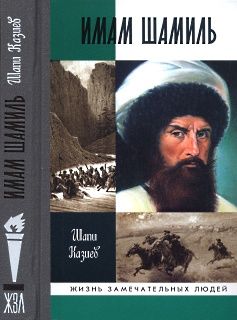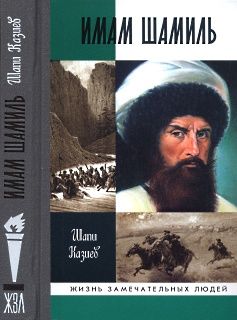Николай Черкашин - Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска)
Я в увольнение не собирался. Постирал бельишко, а вечером отправился в гости к земляку — шестнадцатилетнему юнге из оркестра Коле Крайневу. Он тоже родом из Чудова. Знать бы, что видимся с ним в последний раз. Взрыв прошелся как раз через кубрик музыкантской команды, и юнгу разорвало в клочья…
Взрыва я не слышал. Наш 13-й кубрик находился под шкафутом правого борта, в забашенном пространстве 2-й противоминной башни, за ее основанием и висели наши койки. Проснулся от крика дневального Омельченко:
— Подъем! Корабль взорвался!
Света нет. Включили аварийные синие плафоны. Молодых толкаю, а они спят, только во сне мычат. Молодых много было. Наши войска как раз из Австрии вывели, и часть солдат прислали на линкор. Прибыли за день до взрыва, в сапогах. В воде их потом эти сапожки потянули. Объявили боевую тревогу. У нас, зенитчиков, так было заведено: по тревоге хватали одежду и — на боевые посты. Там уже одевались. Главное, чтобы успеть самолеты «противника» встретить. А в чем ты — неважно. В трусах и шлемофоне, но в руках — маховики, в прицелах — небо.
Нас вот так же в пятьдесят четвертом подняли. Тогда над севастопольскими бухтами пролетал иностранный самолет-разведчик. «Новороссийск» первым открыл зенитный огонь. Но наш потолок — 14 километров, а самолет выше летел. Били в самый зенит, так что осколки на корабль полетели. Ведищеву, правому замочному, плечо разворотило… Вся эскадра стреляла, но самолет ушел. Его потом над материком сбили, почти как Пауэрса.
Вот мы и решили — снова провокация. Примчался я на свой 71-й боевой пост — это на правом борту возле фок-мачты спаренные зенитные «сотки». Натянул шлемофон — первая команда пошла: «Орудие боевым — зарядить!» Тут из элеваторного люка стали выскакивать патроны — один за другим. По 28 килограммов штучка. Зарядил я свое левое, доложил «Товьсь!», руку на спуске держу, слышу в наушниках голос наводчика вертикального: «Цели нет». Наводчик горизонтальный: «Цели нет». Прогнали по всему азимуту — одни звезды. Нет воздушных целей.
Слышу команду с КП: «Дробь стрельбе. Спасать людей. Спустить шлюпки!»
У нас в батарее были лучшие гребцы — призовая шлюпка. Шлюпки спустили быстро. Спасли тех, кого выбросило взрывом в море: часового на баке, Кичкарюка Ивана из нашего дивизиона и еще моториста с баркаса. Ночью под правым выстрелом стояли баркасы. В воде от взрыва образовалась впадина-воронка. Баркасы в нее провалились. Кто наверху в них спал — тех выбросило на поверхность, кто внутри — погибли.
Меня послали в носовую часть — на разведку и помощь. Первый, кого я увидел, — наш почтальон Блинов. Стриженный по второму году, он лежал навзничь, с вывалившимися кишками. Глаза были открыты, но уже ничего не видели. Помощь Блинову была не нужна… Я побежал дальше, к огромной — от борта до борта — дыре в палубе. Оттуда неслись крики и стоны, туда светили фонарями, спускали переносные лестницы… Весь бак был залит илом. Набрал его полные башмаки…
Никогда не забуду, как старшине 2-й статьи (фамилию не знаю) зажало полуоторванным комингсом правую руку. Как ни дергали его, как ни отгибали железо — крепко зажало, ни в какую. А нос погружается, вода подступает. Ему аварийный топор притащили, «Руби руку!» — кричат. А он не может, духу не хватает… В воду уже по грудь ушел… Притащили ему кислородник, КИП-5*, натянули маску, так он и ушел под воду, только свободной рукой на прощанье помахал… Кислорода ему на час, наверное, хватило…
В корабельном карцере двое сидели. Один из нашей батареи — Иван Медведков, москвич, сирота. Нагрубил старшине батареи мичману Родионову и сел. Другой — Науменко, из БЧ-5.
Часовой стоял из молодых — Бойко. Испугался крена, хотел бежать. Арестованные в крик: «Выпусти!» Бойко сбил прикладом замки. Успел. Выскочили. Науменко и сейчас живет, на Морзаводе бригадиром дизелистов работает. А Медведков при опрокидывании утонул.
Весной ездил Медведков в отпуск. Коля Рылов его к себе пригласил — в тамбовскую деревню. Там он зазнобу завел и даже ребенка успел зачать — к ноябрьским праздникам ждали. Как раз и служба кончалась. Костюмчик к свадьбе справил. Да вот не довелось. И Коля Рылов погиб. И вот что обидно: живет где-нибудь Иваново дите, парню или девице сейчас уже за тридцать. А отца подлецом считают. Обещал жениться и не приехал. Похоронку ведь в ту деревню не прислали. Хотели с ребятами написать — да кому? На деревню девушке? Ни имени невесты не знали, ни названия села…
Сидели мы при орудии, пока не дали команду: «Незанятым борьбой за живучесть спуститься в кубрики, забрать комсомольские билеты, книжки „боевой номер“** и построиться на юте!»
Что было дальше? Бежим мы на ют по правому борту. Не успели добежать новая команда: «Всем по боевым постам!» На наше счастье, на рострах стоял помощник командира Сербулов. Он-то сразу понял, что нам грозит, и на свой страх и риск адмиральскую команду отменил. Крикнул нам: «Всем к борту!» Линкор уже вовсю кренился на левый борт. Мы помощника послушали, это нас и спасло. Перелезли мы через леера правого борта и встали на неотваленные выстрела. По ним хорошо было добираться до десантных барж, что стояли под правым бортом. Но на пути к ним — парадный трап. У входа на него — комфлота Пархоменко с адмиралами. Застопорились мы. На адмиралов не попрешь. Сели на выстрел и ждем.
Старшина батареи мичман Родионов кричит мне с площади грот-мачты: «Виктор, давай сюда! Мачта в любом случае над водой останется… Давай шустрее, а то пожалеешь!»
Мичман Родионов всю войну на «Красном Кавказе» прошел, знал, что к чему. Я бы полез к нему, но побоялся: уж очень высоко, 27 метров. С борта все же пониже прыгать… Не помог Родионову фронтовой опыт. Грот-мачта, облепленная на всех площадках и мостиках людьми, со всего размаха ухнула в воду, сразу же ушла в жидкий грунт на глубину своей высоты. Почти все погибли.
Мы же сидели за леерами на выстрелах, в общем-то на борту, и когда он стал выходить из воды — линкор опрокидывался на левый бок, — мы побежали по нему, как бегут по цилиндру эквилибристы. Сначала мы бежали мимо иллюминаторов по краске, потом краска кончилась, и за ватерлинией пошло мокрое, скользкое, обросшее ракушками железо. Оно надвигалось на нас, уходило под ноги со страшной скоростью, но все же мы успевали. Это был отчаянный бег — по борту опрокидывающегося корабля.
Вдруг перед нами вырос длинный, полутораметровый барьер — скуловой киль. Ленька Смоляков, он впереди бежал, ухватился за киль и мне кричит: «Держись за мои ноги!» Я схватил его за штанины, но в мои ноги тоже кто-то вцепился, потом еще… Я не удержался, оторвался, и вся цепочка покатилась по острым ракушкам — ладони, локти, колени, все в кровь. Но расцепились, кое-как вскарабкались к проклятой ребрине, перелезли через нее и очутились на спасительно широком днище линкора. Как на огромном плавучем острове. Много нас тут оказалось, человек пятьдесят. В том числе и Ваня Сопронов из Воронежа, тот самый, что в гальюн нас за семь верст водил.
Мы все бросились в нос, откуда бил из пробоины высокий фонтан. Почему-то все решили, что вот-вот взорвутся погреба кормовых башен, а в носу боезапаса — поменьше… Кое-кто сбрасывал бушлаты, одежду, кидался в воду и плыл к берегу. Пример был заразителен, я тоже начал расстегивать ремень, да вдруг увидел, как парень, что поплыл через бухту к Куриной пристани, вдруг скрылся под водой и уже больше не вынырнул…
— Ребята, кто на киле, ко мне! — Это кричал помощник начальника штаба эскадры капитан 2-го ранга Соловьев. — В воду не прыгать! утопят! Держаться всем на днище!
Если бы не он, меня, да и других, на свете давно не было, сейчас бы встретил — в ножки ему поклонился. Удержал нас Соловьев от безрассудства, от горячки. Остались мы на днище.
Помню, вынырнул из воды курсант, забрался на днище, нашел чью-то брошенную одежду, переоделся в сухое, достал из кармана папиросы, закурил и головой покачал: «Вот это практика-а!..»
Подошла десантная баржа. Покатость линкоровского борта мешала ей пристать вплотную. Тогда нам стали бросать концы и перетаскивать на борт. Только я перебрался таким макаром, вдруг слышу:
— Витька, помоги!
Между корпусом корабля и баржей барахтается Петька Науменко. Бросил ему пожарный шланг. Тот по нему и влез. Потом еще кто-то.
Доставили нас в госпиталь, налили по полкружки спирта. Опрокинули, а руки все равно трясутся, в кровь изрезаны. Шел мимо врач-подполковник, увидел, как руки у нас дрожат.
— Ну что, ребята, не можете успокоиться? Налейте им еще.
Утром нас вызвали на госпитальный причал опознавать погибших. Их было много, они лежали в несколько рядов. Мы ходили между ними, вглядывались в неузнаваемые — распухшие, изъеденные мазутом — лица. Узнали только одного из своей батареи, и то лишь по родимому пятну на ноге. Офицер, шедший за нами, записал его фамилию в блокноте, вынул из робы документы и бросил их в фанерный ящик клиновидной формы. Там было уже много боевых книжек и комсомольских билетов, разбухших от воды.