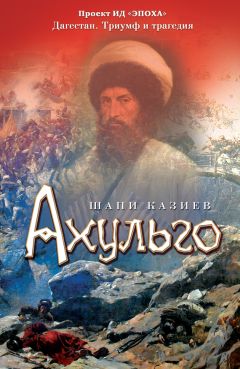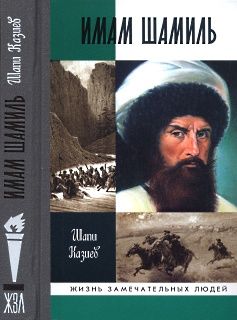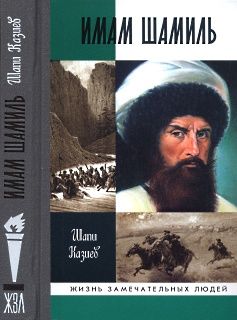Николай Черкашин - Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска)
С инвалидским удостоверением Иван Иванович ходил недолго.
В одесском трамвае вытащили у него бумажник со всеми документами. Паспорт, правда, прислали по почте… И на том спасибо.
Эх, знал бы тот ворюга, чьими льготами он собирался пользоваться!
Выдали Кичкарюку дубликат.
Красная книжечка пришлась как нельзя кстати. С ее помощью дед Иван трижды летал на далекий Курильский остров к дочери — помочь молодым обжиться на новом месте. А место ого-го какое — добраться или выбраться на островок можно лишь пограничным катером, да и тот через узенький, но бурный проливчик два часа выгребает. Жизнь тут лихая — то штормы по месяцу, то землетрясения, то цунами… Тамара не жалуется, как-никак внучка моряка, дочь моряка, жена моряка, да и сама — морячка. А это, как поется в песне, что-нибудь да значит.
Это неверно, что все счастливые семьи похожи друг на друга. У семьи Кичкарюков — свое счастье, ни на чье не похожее, выстраданное, выхоженное, трудное… И все-таки счастье.
Вот попробуй тут не скажи — судьба. Огненный столб взрыва, искалечивший, но пощадивший матроса, будто повелел ему — живи здесь, подле страшного места, тут найдешь себе и суженую, и кров, и дело, и все, чем счастлив человек. Живи и помни. Иван Кичкарюк живет и помнит.
Автографы смерти, знаки той давней беды, остались на ленте сейсмографа, на искалеченном теле Ивана Кичкарюка, на судьбах сотен, тысяч людей…
«В войну мы были мальчишками…»Сколько было матросов на «Новороссийске», столько и судеб. Невозможно выбрать одну — общеподобную, типичную. И только время было одно на всех, и оно пометило их своими приметами, как пометил их флот одними и теми же лентами на бескозырках…
Матрос Виктор Салтыков, бывший левый замочный 7-й зенитной батареи линкора «Новороссийск».
Он совсем еще не стар — немного за пятьдесят. Голубоглазый круглолицый русак из новгородского города Чудова. Тридцать лет работает в Севастополе таксистом. Вместе с сыном, в одном таксопарке.
И все у него хорошо. И дом в Инкермане — полная чаша. И свои голубые «Жигули» на ходу. Но стоит в его глазах и мучает невысказанное, незабытое, непереданное… Виктор Иванович Салтыков:
— Мать умерла, когда мне семь лет было. Отец как раз на финской воевал. Остались мы с сестренкой одни. Отец вернулся, пожил с годик и снова на фронт. В июне сорок первого ушел. А в сорок втором погиб на Пулковских высотах. Снайпером он был.
Сестру увезли из Чудова в деревню. Я ее потом лишь через двадцать лет разыскал… Ну а мне в ту пору девять стукнуло. Фронт вплотную надвинулся. Отправился я к бабушке, что за тридцать километров в селе жила. Шел по дороге вдоль Волхова вместе с беженцами, вместе с солдатами. «Мессеры» ту дорогу поливали свинцом. Я, как и все, падал на землю, укрывался за деревьями. Какой-то солдат мне сказал: «Не так ложишься, малец. Поперек. А надо вдоль. Не то немец тебе ноги отшибет, так и сгниешь в болоте. Головой ложись…»
Прибился я к этому бойцу, а он шел с горсткой своих товарищей, в ботинках без обмоток, отступали, видно, или часть свою догоняли. Солдаты ему говорят: «На что тебе этот малец?» А он: «Со мной пойдет, ни за что не брошу».
Через Волхов разрешали переправляться только военным. Гражданские беженцы, повозки, скот — толклись по берегу. Разбегались, только когда немцы прилетали. Бойцы сели в лодку и меня с собой взяли. Шли за баржей с танком на палубе. Едва выплыли на середину реки, как опять «мессеры» налетели. Бомба угодила в баржу, танк свалился в воду, и волной от него перевернуло нашу лодку. Я плавать умел, но боец велел держаться за его гимнастерку. Так и выплыли. Собрались на берегу, кто доплыл. Отжали обмундирование и двинулись в ту деревню, где бабушка жила. Бабушка спрятала бойцов в дальней бане. Утром велела отнести им картошки и сказать, что в деревне немцы. Я пошел. Смотрю, все спят. Один на пороге бреется. Я ему передал, что бабушка сказала. Он крикнул: «Подъем!» Все вскочили, быстро собрались и ушли.
Так войну я в деревне и прожил, пока наши блокаду не прорвали и Чудов не освободили.
Спустя лет двадцать — уже после службы — разыскал я в Чудове сестру. Сказали мне знающие люди, что в магазине работает. Захожу в магазин, смотрю на продавщиц — какая из них Люда? Узнать не могу. Пошел к ней домой — адрес мне дали. Дождусь, думаю, тогда и узнаю. Дома дети, племяши мои, значит: «Мамка на работе». Тут Людмила приходит. «Брат так брат. Садись ужинать». Странно, думаю, встречает. Или не признала? Приходит с работы ее муж, она меня знакомит: «Вот брат мой двоюродный». Ах, думаю, вот оно в чем дело! Она меня за двоюродного приняла, что в соседней деревне жил.
«Не двоюродный, — говорю, — а родной».
«Как — родной? Быть не может! Витюшка в сорок первом погиб. В дом бомба попала…»
«Попала, — говорю, — да в другую половину. Меня соседи взяли. Давай-ка свой паспорт, сличим».
Сличили. «Ты — Салтыкова, и я — Салтыков. Ты — Ивановна, и я Иванович. Ты в Чудове родилась, и я там же».
Вот тут и признали друг друга. И в слезы…
Ну а с отцом у нас такая встреча вышла. Купил я как-то книжку «Бойцы Выборгской стороны». Вдруг в глаза строчки бросились: «Иван Салтыков, снайпер-инструктор 265-го стрелкового полка 5-й ополченской дивизии. Награжден орденом Красного Знамени за 137 убитых фашистов. Погиб на Пулковских высотах…» Поехали мы с дочерью в Ленинград. Там в одной школе музей 5-й дивизии. На стенде фото: слет снайперов Ленинградского фронта. Пригляделся — с краю отец мой стоит… Так вот и встретились…
В конце пятьдесят первого года меня призвали на флот. После присяги нас, молодых, минуя учебный отряд, доставили прямо на линкор. Я до службы работал в Северо-Западном речном пароходстве, так что имел представление, что такое судно. Но тут — такая громадина! Во сне не приснится.
Разместили нас в кормовом кубрике. Моя койка-гамак самая верхняя — в третьем ярусе. Никогда в таких не спал. Кое-как влез. Устроился, лежу на спине. Захотелось перевернуться на правый бок. Только повернулся, кувырк и вниз слетел, на спящего старшину. Еще раз влез и еще раз кувырнулся. Чуть не плачу — издевательство, а не койка. Старшина сжалился: «Возьмись за пиллерс, подтянись, найди место спиной и опускайся». — «А если на боку?» «Свалишься». — «А вы как же?» — «С наше, браток, послужишь, так же научишься». Потом, конечно, приспособился. Шутка ли — пять лет в гамаке качаться. Зато в шторм — никаких проблем, вся батарея качается от борта к борту, как младенцы в люльках. Только храп стоит.
В тот первый день захотелось нам с приятелем в гальюн. Да где его найдешь в таком лабиринте? Спросили мы у старослужащего Ивана Сопронова. «Ладно, — говорит, — дуйте за мной!»
Ну мы и дунули. Шли по каким-то длинным коридорам, спускались под палубы, пробирались через кочегарки, снова поднимались и снова петляли по каким-то проходам, коридорам… «Ну, — думаю, — дела. Мало того, что убегаешься, так и не найдешь его, этот гальюн, пропади он пропадом». Мы уж и вовсе ориентировку потеряли — где корма, где нос, где левый борт, где правый… Тут Сопронов нас наконец привел. «Вот вам, блаженствуйте!» И ушел. Дела мы сделали, а как обратно выбираться? Стали Ивана искать, всех подряд спрашивать: «Не видали ли моряка такого — рослого, полного?» Народ посмеивается: «У нас тут все не худенькие! Из какой он бэ-че?» — «Не знаем». — «А вы из какой?» — «Артиллеристы мы…» — «Дивизион какой?» «Зенитчики…» — «Эк вас куда занесло! Да у вас же свой гальюн рядом». Ну, хохот, конечно… Разыграл нас Сопронов. Нашлась добрая душа, вывела нас на верхнюю палубу, а там по левому борту на ют пробрались, отыскали свой люк и вниз.
В октябре пятьдесят пятого я дослуживал четвертый год. Сам уже молодых за кипятком на марс посылал. Ну, правда, сигнальщики перехватывали, объясняли, что выше лезть уже не положено, а за чаем надо метров на двадцать вниз спуститься — на камбузную площадку, в самоварную выгородку.
За неделю до взрыва линкор стоял в Донузлавском порту. В три часа ночи всю эскадру подняли по тревоге, и корабли срочно перешли в севастопольскую бухту. Говорили, что в Черном море обнаружили неизвестную подводную лодку. Вот и перевели нас под надежную защиту.
В пятницу 28 октября, после выхода на стрельбы, мы встали против Госпитальной стенки. Объявили сход на берег и стирку. Боцманская команда вооружила бельевые леера, подали воду на ют, и там на тиковой палубе (деревом была покрыта только корма) мы начали драить щетками свои робы и форменки. Стирали на совесть. Были такие ловкачи, что замазывали всякие пятна на белых брюках и форменках зубным порошком. Но Сербулов, помощник командира, умел их выводить на чистую воду. Выстроится братва перед увольнением по «форме раз» (белый низ, белый верх), Сербулов пройдется вдоль строя и — цепочкой по штанам. У кого белая пыльца вспорхнет — вон из строя стираться…