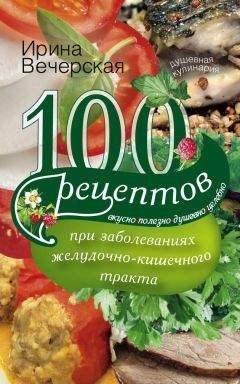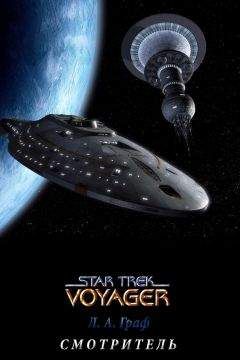Наталья Головина - Возвращение
Металась мысль. Пусть он давно объяснил себе, что роль честных людей на этом свете, по-видимому, состоит исключительно в том, чтобы страдать и погибнуть с достоинством, но все-таки ему было тяжело сейчас, когда, как ему казалось, он вплотную приблизился к концу… или по крайней мере к скорой омертвелости всех чувств, неизбежной после теперешней боли. Он усиливал ее попытками самосознания. Не одному черту, а и самому себе в глаза вглядываться не следует…
…В Зинциге, в кропотливом уюте крошечного немецкого городка, по какой-то противоположности с обстановкой в его воображении возникло словно бы чуть диковатое, красивое юное женское лицо, порывистость и крупность русского характера — девушка, «вылепленная» из многих… Ивану Сергеевичу захотелось рассказать, полусознаваемую вначале, непрекратимую любовную историю.
Он понял, что вновь будет писать. И называться повесть будет «Ася».
«Хоть время теперь, кажется, совсем не туда смотрит…» — угадывал он возражения иных из своих будущих читателей. Но знал, что это лишь по видимости так.
Много времени у «лондонцев» отнимали многочисленные в ту пору визиты. Порой все домашние Александра Ивановича изнемогали от них.
Приехала одна российская дама лет пятидесяти и представилась Герцену и Николаю Платоновичу:
— Дочь аристократа, вдова аристократа и мать аристократа! — Имя у нее было действительно громкое, манеры внушительные и заносчивые.
Дама была энергичной и с малиновым румянцем. Они ездили с невесткой на воды.
Та же, напротив, была из изможденно-утонченных, салонное (вроде того, как бывают тепличные) растение. Но руку для поцелуя не протягивала, что-то все же понимала относительно места, куда попала.
О да, хозяева им понравились… Они с удовлетворением высказали, что в них, пожалуй, нет самовлюбленности, которая столь свойственна, на их взгляд, этим людям ниоткуда, ставшим почему-то, игрою судьбы, заметными в обществе. Герцен, к примеру, — сама открытость и любезность, одет скромно и просто… так что уж даже чего-то и не хватает, из той, знаете ли, маститости… Они с Огаревым хорошей крови, она объясняет — этим.
Что происходит в России? Право, ничего, разве что студенты в столицах стали так дерзки. Племянник Мишель жалуется, что на лекциях в университете скверно пахнет от поповичей.
Завернули они сюда отметиться. Ну и взаимно лестно.
При виде их особенно наглядной становилась преступность жизни в роскоши. Она растлевает живущих в ней, и никакими цветами духовности (нет их) отнюдь не возмещает усилия тех обобранных, за чей счет они живут. В то же время обычный крестьянин центральной полосы во всю жизнь не ест мяса, и у него постоянно не хватает хлеба. Кто побогаче, заготавливают капусту. Чудовищно расстояние между народом и Петербургом!
Гостьи велеречиво упрекали «лондонцев» за их возмущение сегодняшним положением народа, за то, что у них хватает мужества говорить, насколько он обделен во всем. По их мысли, он на то и предназначен. Они приехали убедить в этом «звонарей».
…Вот еще посетитель — судебный чиновник. Моложав и томен. От его позы в кресле веяло той развратной негой, что дается многолетним сидением в суде перед поясными поклонами крестьян. Пунцовый шелковый жилет и округлость всех форм… Чрезвычайно приятный барин. И звали его Модестом Петровичем Лихоегиным, ох уж и метит иной раз фамилия!
Говорил он о своих правах. Этакий со сдобными щеками службист из Болохны, явившийся засвидетельствовать свое сочувствие вольной печати и то, что он не такой ретроград, как его коллеги, и если бы правительство умело ценить людей… Не продвигают по службе. В то время как местный исправник — пусть «лондонцы» отделают его, весь уезд благодарен будет, и ему даже поручено просить их об этом — человек растленный, дочь свою не выдает замуж, чтобы не отделять приданого, проиграл прокурору в карты двадцать четыре рубля и норовит не заплатить. Но нынче, знаете ли, не прежние времена, если затирают — можно будет сыскать честь в «Колоколе»! Посетитель осклабился…
Герцен выбежал из кабинета и, заглянув к Нику, задохнулся от смеха:
— Нет, ты послушай, что врет этот изверг!
— …Ну а то, что вы больно много напираете на крестьянский вопрос… не созрело!
— Будто бы?
— Ей-ей-с. Тоже подобие божие… да. Но преждевременно.
…Другой посетитель. Разговор основательнее.
Он осанист и крепок, несмотря на преклонные годы. Отечные складки на лице от тучности и подорванного сердца. Генерал когда-то был боевым офицером под Бородином, затем служил по штабам, имеет много наград.
Поговорили с ним о выпушках и орденах. Отчего же нет — освежить в памяти, все что ни приходит из сведений о родине, все интересно. Хотя бы вот об орденских лентах: оранжево-черная через плечо — Святого Георгия, черно-красная — Владимира, красная — Анны, голубая — Андрея Первозванного… Генералу оставалось получить всего лишь последнюю. Ордена, усыпанные бриллиантами, алмазами, рубинами… (Хранились, понятно, в его питерском доме.)
— Ну вот, славный Александр Иванович, Россия двинулась по пути… по стремительному пути. Доверительно сообщаю вам, что возможно — это возможно! — будет созван комитет подготовки к реформе… (Очень могло быть, что высокий гость послан, чтобы умерить агитацию «Колокола» по крестьянскому вопросу, подумал про себя хозяин.)
— Если сбудется, генерал, выпью ваше здоровье!
— Но за что же еще ратует «Колокол»?
— Мы сие оглашаем из номера в номер.
— Конфиденциальным образом вам скажу (не слишком ли густо доверительности, снова улыбнулся Герцен), что «Колоколом» теперь открыто пользуются в министерствах для информации о злоупотреблениях.
— Вы спрашиваете — «о чем мы?», — решил все же объяснить Александр Иванович. — Сегодняшний гордиев узел — освобождение крестьян. Петербург хотел бы думать, что речь тут идет всего лишь о личной свободе, которая при существующем деспотизме имеет крайне мало значения! Освобождение немыслимо без земельной реформы. Итак — земля освобождаемым! И как не менее важное — равноправие сословий перед законом, избавление от битья взамен всех форм суда и права.
— Это особенно похвально для русского сердца, что не забыта такая малость…
— Однако не мелочь для тех, кто подвергается! Так вот, за освобождение рабов и умственное движение России.
— То есть и все дальнейшее?.. — спросил гость с тяжелым испугом. Хотя генерал был подобран с довольно широкими взглядами…
…А вот гость, подающий свой визит как дорогую бомбоньерку.
Вид у него пресыщенный и самолюбивый. Евгений Аристархович Гурнов, помещик и сановник.
— Не приехать к вам нужно теперь больше смелости, чем посетить!
Сказано было недурно, оценил Герцен. Даже сидевший с рассеянным видом Ник (ему нездоровилось) улыбнулся. Он оживился и завел с посетителем беседу на аграрные темы в новейших терминах. Гурнов показал неплохое знание передовых воззрений в этой области. При таком повороте разговора Герцен всегда несколько устранялся: экономист — Николенька. Понуро-самолюбивый гость, стяжав успех, к которому, видимо, был привычен, прояснел холодным лицом.
— Длительное разорение русской деревни… болит совесть… — можно было услышать от него дальше. (Разновидность «кающегося дворянина»? — спрашивал себя Герцен.) — Так что, если бы не надежда на нового государя, можно было бы признать справедливыми самые решительные низовые выступления. И знаю, что и в Лондоне разделяют эту надежду.
— Так ли уж мы разделяем? — Герцен был слегка раздражен, так как подобные разговоры с гостями были давнишними и постоянными в Путнее. Ему с Огаревым было трудно совершенно отказаться от таких надежд, но и оснований поверить в них окончательно было явно недостаточно. Александр Иванович пояснил свою позицию: — Так вот, я готов буду признать его действительно великим государем (в конце концов, подобные реформы здесь, в Европе, когда-то закреплялись в законодательном порядке монархами), но пусть же он наконец в самом деле изменит хоть что-то! Что же он сделал для страны, кроме некоторого удешевления заграничных паспортов и амнистии декабристам, которых было уже стыдно держать в рудниках в мафусаиловом возрасте?
— Полегче стала цензура.
— Да полно, уже — вчерашний день. Несмотря на то, что препоны для слова просто-напросто нерациональны… На Западе всякое крамольное издание выходит тиражом хотя бы в сотню экземпляров, тем самым снимается интерес к запретному плоду… Что, впрочем, обусловлено и характером здешней публики.
— Но тем не менее невозможно не признать, что в лице Александра Россия приобрела наконец просвещенного и широкого мыслью государя. Близкие к нему люди передают, что он с особой приверженностью цитирует Гёте — свободолюба и мудреца. Притом крепок и бодр духом: ходил с рогатиной на медведя… И если медлит, это говорит о многосложности задачи: одна стронутая песчинка может совлечь гору…