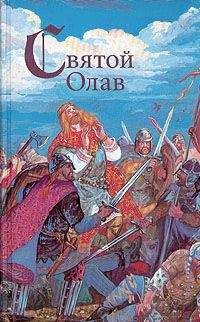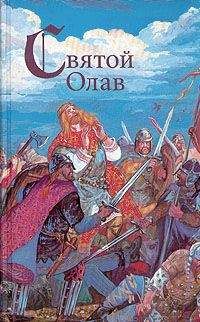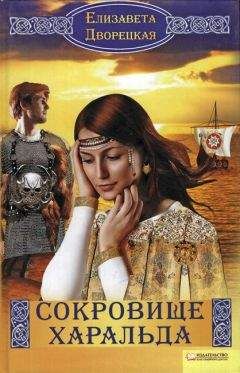Михайло Старицкий - РУИНА
— Иван! Боже мой! — вскрикнула с неудержимым восторгом Марианна. — Назад! То наш лучший друг! — остановила она бросившихся было псов и стремительно пошла навстречу желанному гостю.
Мазепа тоже поспешно соскочил с своего аргамака, передал его конюху и почти подбежал к Марианне.
— Как я рад, — промолвил он, словно виноватый, и поцеловал протянутую ему руку.
Марианна тоже поцеловала его дружески в голову и заметила с легким укором:
— Рад, а по полугоду и глаз не кажет…
— Где ж по полугоду? — улыбнулся нежно Мазепа.
— Ну, я не считала аккуратно… не до того было… время лихое, а все ж долго: отец ждет и не дождется… каждый день приносит новые и все более неприятные известия… надвигаются отовсюду хмары, а от пана — ни слуху ни духу!
— Да я, друже мой любый, и без хмар прилетел бы сюда, не прогулял бы, не промедлил бы и минутки, коли б моя воля, то я бы, может быть, так надоел, что и дрючком бы велела гнать меня со двора…
— Будто бы? — вспыхнула Марианна и начала ласкать своих псов. — Только я своих друзей никогда не гоню… Не правда ли, мои щирые, неизменные?
Собаки завиляли любовно хвостами и, взглянув ревниво на пышного пана, зарычали сдержанно, тихо.
— Ну, вот и они недовольны за кривду…
— Они просто злобствуют ревниво на нового друга… Да, будь я на их месте, испытай их счастье,..
— Ха, ха, ха! — засмеялась сиявшая радостью Марианна. — Так побратым мой им завидует?
— Завидую, — ответил сдержанно, несколько грустным тоном Мазепа, смотря ей прямо в глаза.
— Жартует пан, — смутилась почему-то невольно Марианна и заговорила торопливо: — Однако и я хорошо витаю нашего дорогого гостя! Пустыми лишь словами, а он ведь и голоден, и с дороги устал, да и тато мой его ждет с нетерпением: то-то обрадуется! Ну, идем же, идем до господы, — и, проводивши Мазепу к крыльцу, она добавила: — Ты ведь, пане Иване, не забыл, верно, стежки до нашей хаты, так поспеши обрадовать батька, а я распоряжусь пока кое–чем, да приму и размещу твою охрану…
Марианна сказала правду: радость старого полковника Гострого при встрече с Мазепой была безмерна; он обнял его и долго, долго не выпускал из объятий, приговаривая: «На силу, на превеликую силу!» — а потом усадил рядом с собой и, поглаживая ласковой рукой то по плечу, то по колену желанного гостя, начал расспрашивать его о делах Правобережной Украйны — о Дорошенко, о его мероприятиях и, наконец, лично о самом Мазепе, — где он был, что делал и почему на неоднократный зов до сих пор не жаловал в его лесное захолустье?
Мазепа подробно ему стал докладывать о всем, что творилось и что затевается на правом берегу Днепра: о брожении умов, возмущенных договором гетмана с Турцией, о настоящем значении этого договора, о поездке своей на Запорожье, о постановлении Сечевой рады, об Острожской комиссии и о тревожном, раздражительном состоянии гетмана в последнее время… Об одном только умолчал Мазепа: о непонятном появлении на казачьей руке кольца Галины, о буре, какую подняло оно в его сердце, и о безуспешных розысках, убивших напрасно много нужного времени.
Гострый молча, с напряженным вниманием слушал Мазепу, то кивая иногда одобрительно седою головой, то качая ею печально; чем дольше говорил Мазепа, тем серьезнее становилось выражение типичного лица пана полковника, тем резче сжимались его нависшие брови, тем ниже опускались на широкую грудь длинные, волнистые усы. Наконец Мазепа умолк. Полковник глубоко задумался. Тяжелым камнем упало молчание и словно придавило обоих собеседников.
— Да! — вздохнул глубоко, после долгой паузы, Гострый и заговорил тихим, унылым голосом: — Да, бесталанна ты, наша матинко! Такая ли щербатая доля тебе отмежевана Богом, или мы, недостойные ласки твоей дети, не радеем о своей кормилице, а только лишь о своих животах заботимся, да, как Каины, роем друг другу ямы. — Гострый замолк и опустил еще ниже свою буйную голову.
XXXVIII
Мазепу глубоко тронуло слово полковника, в котором прорвалось скорбное предчувствие, притаившееся змеей в его могучей груди; оно, видимо, таилось в ней давно, а теперь разрослось и с каждым днем подтачивало у старика силы, погашая последние живительные лучи надежды.
— Много правды в словах высокоповажного пана полковника, — заметил со вздохом, после некоторого молчания, Мазепа, — но действительность, мне кажется, не так еще беспросветна: ведь много есть и горячо преданных отчизне людей…
— Ох, не так много! — покачал уныло головой Гострый. — Если и есть преданные отчизне сыны, то они или не понимают ее настоящего блага, или тянут уж врозь, или же из-за супереки (противоречия) идут друг на друга… А большая часть старшины, — понизил голос полковник, — продажные перевертни… Народ? Да что же поделает забитая, темная масса… Казаки? — Они спят и видят пробраться в шляхетство, заполучить его привелеи… Одни лишь запорожцы стоят за старину, да и то за своеволье и буйство: удалы они, — правда, вскормлены в буре битв, в дыму гармат, в лязге мечей… да только в этих сечах и покладают всю цель своей жизни, не разбирая, за кого подымают кривули? Вот ты говорил, любый, что у Сирко и у братчиков исконный враг — татарство, а ведь этот самый Сирко с запорожцами держал же сначала руку Ханенко и вместе с его татарскими ордами шел на Петра Дорошенко… Не зарекаюсь я, что это и впредь может статься…
— Не дай Бог! — улыбнулся горько Мазепа.
— Да, не дай Бог, а такие времена наступают, что и горлинки начнут клевать нам глаза. Вот опять и за Турцию, — правда, что ей меньше змоги (возможности) зауздать нас совсем и присоединить, как рабов, к своей Порте, — море мешает; но правда и то, что в турецкую помощь верить нельзя: уж, кажется, могли бы мы в этих басурманах извериться, так нет же. Да еще и то прими во внимание, что союз с Турциею вечно будет противен народу… Так я полагаю, что против рожна трудно прати.
— А за Москву, как его мосць думает?
— Эх, не знаю… Вот Многогрешный сначала как щиро шел на соединение к Дорошенко, а теперь пронюхал, что Ханенко шлет послов с челобитной в Москву, и призадумался, притаился: послов-то остановил, а своих, кажись, снаряжает и от меня уже во всем кроется: пожалуй, сможет и Дорошенко выдать Москве.
— Неужели и этого ожидать можно? — даже схватился с места, словно ужаленный, Мазепа.
— Всего можно. Оттого-то я Петру и писал, просил, чтобы поскорее посылал тебя разузнать и разбить их козни.
В эту минуту вошла Марианна и, поцеловав нежно отца в голову, спросила его:
— Ну что, дождались пана генерального писаря?.. А тато, верно, мало журил его за то, что нас забыл?
— Ну это, дочка, тебе сподручнее пожурить его, а наша стариковская воркотня ему за шутку покажется.
— О, я пану отомщу как другу… А пока как гостя прошу до трапезы.
Предложение Марианны рассеяло несколько то тяжелое настроение, какое овладело было нашими собеседниками. Все бодро и весело поднялись со своих мест и с просиявшими лицами двинулись в трапезную. Так иногда в осенний, дождливый до одури день прорвется украдкой сквозь свинцовое небо солнечный луч и сразу оживит угрюмую картину природы: все видоизменится волшебно, все засверкает отрадной улыбкой и даже в осиротевшей, тоскливой душе проснется на миг жизнерадостное чувство…
В трапезной Мазепа застал и хорунжего полковничьей команды, пана Андрея. Старые знакомые встретились приветливо, хотя у Андрея и проглядывало некоторое принуждение; он изредка бросал на своего соперника недружелюбные, ревнивые взгляды; но Марианна, поймав их, останавливала на нем пристально свои лучистые, большие глаза и смиряла его мгновенно. Обед прошел в оживленной беседе относительно положения дел в Батурине и относительно мер противодействия, какие нужно было предпринять. Полковник советовал Мазепе поехать туда incognito, переодеться: в чужой-де шкуре удобнее будет сделать разведки, а в своей собственной, пожалуй, и не допустят туда, куда нужно. Мазепа и сам был того мнения, тем более, что ему хотелось скрыть и свою дружескую связь с Гордиенко. Гострый обещался снабдить Мазепу письмом к Самойловичу, который, по его мнению, стал очень выдвигаться вперед и тайно мутить старшину. Мазепа тоже имел в запасе новость, с которой мог подойти к Самойловичу. Он заторопился немедленно ехать в Батурин, но радушные хозяева оставили его отдохнуть до следующего дня.
После обильной трапезы и всяких заздравиц Гострый отправился в свой покой писать письма к Самойловичу, к Многогрешному и к своему верному приятелю Тимченко, а Андрей торопливо ушел по делам; Марианна же осталась с Мазепой.
— Ну, вот теперь мне пан расскажет… — заговорила она, усаживаясь на низком диване возле Мазепы и подмащивая под руку атласную, шитую золотом подушку.
— Опять «пан»? Или это месть? — перебил ее огорченным тоном Мазепа.
— Так уж значит простить, что ли? — улыбнулась Марианна так дружески, так светло, что окоченевшее сердце сразу стало оттаивать у Мазепы.