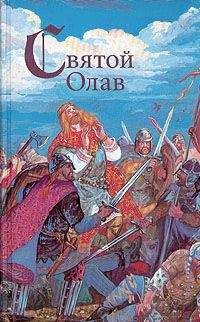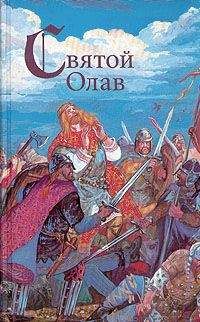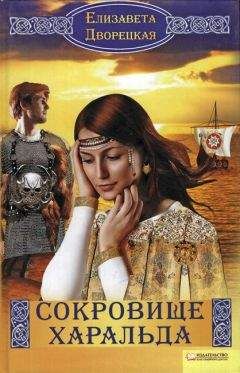Михайло Старицкий - РУИНА
Чернильница не произвела впечатления на Галину, так как она, по малограмотности, не могла разобрать на ней вычеканенной надписи и передала ее игуменье, а часы Галина сразу узнала: они удивили ее еще при первом пребывании на хуторе Мазепы, и она часто любовалась этой заморской диковинкой.
— Его, его дзыгарок, — вскрикнула она. — Я его узнала… Вот и значок от камешка, на который я было его уронила…
— Ну вот, видишь ли? — подтвердила эту мысль и игуменья. — И на этом каламаре (чернильнице) стоит ясно надпись: «Иван Мазепа»… Значит, и сомневаться нельзя, — а чтобы тебе удобнее было в дороге, то я прикомандирую к тебе старую нашу послушницу, сестру Терезу; она тебя соблюдет.
— Святая, преподобная, родная мать моя и благодетельница! — ловила руху у настоятельницы Галина, обезумев от восторга и ставши перед образом Девы Марии, воскликнула в экстазе: — Да неужели это не сон, Заступница моя небесная? — И упала перед образом ниц…
Как ни старался Гордиенко развлечь Мазепу в дороге, какими прибаутками не пересыпал свою веселую речь, но Мазепа ко всему был безучастен и угрюмо молчал; он торопил только чрезмерно коня, чтобы поскорей прибыть в Чигирин и погрузиться в водоворот политических интересов, погрузиться и закружиться в нем до полного самозабвения. Воспоминание о Галине стояло перед ним мрачным, загадочным сфинксом, и чем более он старался подойти к нему и разъяснить его таинственное значение, тем более путался в сети предположений и изнемогал в мучительном бессилии найти хоть какую-либо разгадку… Прежде, до появления этого несчастного кольца, он был убежден, уверен в своей безысходной скорби, и она начинала даже облекаться в элегическую печаль, а теперь… тысяча ядовитых жал вонзились в его сердце, тысяча мучительных дум терзали его мозг, непобедимая тревога охватила все его существо… Да, ему казалось, что он даже при первом виде безобразных развалин хутора и обглоданных костей страдал меньше, чем страдает теперь… Хоть бы подыскать, придумать какое-либо правдоподобное предположение, но нет его, нет… и это кольцо жжет адским огнем его палец и кипятит болезненно кровь!
Гордиенко хотя и болтал в пути о всякой всячине, однако из деликатности не касался открытой раны Мазепы; но упорное молчание и какое-то отупение последнего расшатало его сдержанность, и он решился поговорить с ним напоследок.
— Да ударь ты, наконец, лихом об землю, — сказал он, — и не круши себя думой: умерла твоя Галина, я убежден теперь в этом, и умерла от ятагана косоглазых чертей…
— Как? Почему ты полагаешь? — даже вскинулся на седле Мазепа.
— Да вот, это самое кольцо и говорит о ее смерти, а нам почему-то оно сначала заморочило головы… Ведь если бы поляки сделали наезд, то не убивали бы красавицы ради кольца, так как она сама стоит во сто раз больше, таким бранкам еще покупают всякие цяцьки, чтоб подороже за них взять на торгу. Но ты ведь поляков и в думке не маешь, так как никто из них не знал в тот хутор тропы?
— Никто!
— Ну, так, значит, — татаре, а они и подавно с живой красавицы не снимут ни серег, ни перстней.
— Да ведь стрелы? — перебил раздраженно Мазепа, устремив на Гордиенко воспаленные, налитые кровью глаза.
— И насчет стрел теперь я догадался. Нападение было сделано ночью, с налету, стрелять-то в темноте было и не к чему: голомозые просто подкрались, зажгли с четырех концов хутор, а когда выскочили несчастные из пылавших хат, то на них и набросились, а страшный перевес их в силах сразу покончил борьбу. В темноте, в дыму, да в жаркой схватке эти собаки не разглядели даже красавицы и зарезали твою горлинку… Ну, с трупов, конечно, по-ободрали все, что нашли ценным…
— Да, это так! — вскрикнул Мазепа и помчался во всю прыть по степи…
При въезде в Чигиринский замок Мазепа встретил у брамы Саню Кочубей и обрадовался ей ужасно. Эта встреча напомнила ему, что у него остались еще друзья, которых заставил забыть лишь порыв жгучей тоски.
Саня показалась ему немного пополневшей; она ему сообщила немедленно, что гетман в большой тревоге и что ждет его не дождется, что гоняет мужа ее почти ежечасно справляться, не возвратился ли генеральный писарь из Сечи?
И действительно, не успел Мазепа войти с Гордиенко в свою светлицу, не успел переменить дорожного платья, как его позвали немедленно к ясновельможному.
Дорошенко встретил его с наболевшим, видимо, нетерпением.
— Что это пана дождаться нельзя! — заговорил он с некоторым раздражением, в котором сказывались и дружественная досада, и начальничий выговор. — Можно было б за это время слетать в Бахчисарай, даже в пекло и вернуться назад… А тут неотложные краевые потребы… Тревожные вести… Неведение… ропот этих баранов… И у меня нет под рукой моего писаря.
Мазепа был смущен таким приемом, но, сообразив, что в нем звучали преимущественно тревога и растерянность гетмана, ответил мягко, спокойно:
— Чем чернее встает хмара над краем, ясновельможный, — чем зловещей наступает гроза, тем важнее для нас заручиться помощью Запорожья… И я, благодаря ласке Божьей да содействию друзей, успел этого достигнуть…
— Так Сирко со мной? — вскрикнул обрадованный Дорошенко. — И разделяет мои думки?
— Пан кошевой со славным товариством шлет тебе, батько, сердечный привет и протягивает на помощь свои сильные, вооруженные руки, твои думки, ясновельможный, всем им по сердцу, и Запорожье готово полечь костьми за целость и благо Украйны.
— Господи! Ты не отвратился еще от меня, грешного! — воскликнул умиленным голосом гетман, не ожидавший такого блестящего результата от посольства. — Ну, как же мне без тебя не тревожиться, коли только ты мне и привозишь отрадные вести!
— Непомерно счастлив, если судьба мне подарила такое назначение; но мы лишней минуты не просидели в Сечи, а сейчас же после рады отправились спешно назад.
— Верю, верю, мой друже, — уже смеялся добродушно пан гетман, а потом, привлекши к себе Мазепу, облобызал его трижды и добавил сердечно: — Досадовал потому, что соскучился, стосковался по тебе, и квит!
XXXVII
— Батько мой родный, — вся жизнь моя тебе и отчизне, — промолвил тронутый до глубины души Мазепа и поцеловал Дорошенко в плечо. — Да я и сам не ожидал, — продолжал он, — чтобы удалось сломить этого упорного, на один глаз слепого вождя, ведь он видит врагов лишь в лице неверных, татар, и полагает, что все Запорожье на то и поставлено Богом, чтобы их бить, к другим же врагам, к иным бедствиям родной страны он совершенно слеп и может с полным душевным спокойствием громить преданнейших друзей ее, не ведая, что творит. Но оказалось, однако, что он любит горячо Украйну, по–своему, не разумно, а любит, и эта любовь помогла моей справе. Все Запорожье было до моего приезда страшно предубеждено и вооружено против твоей милости, ясновельможный, за союз наш с Турцией и несомненно пошло бы за Ханенко; но теперь уже этого не будет: Ханенко изобличен мною, и ручаюсь головой, что ни один братчик не очутится на его стороне. Твоя думка — слить Украйну воедино — всех их к нам привернула, и даже на союз наш с Турцией стали смотреть они иначе. Я убежден, что большая половина Сечи была за него и увлекла бы меньшую, если бы в этой меньшей половине не оказались такие запеклые враги нехристей, которым хоть кол теши на голове, а они будут все кричать: «Бей неверу!» Ну так вот эти горланы взяли верх, тем более, что и сам Сирко — настоящий ненавистник неверных.
— Так Сирко, значит, против? — вздохнул разочарованно гетман.
— Нет, он всецело за нас, только против союза нашего с Турцией, и то не потому, что такой союз якобы преступен для христиан, а потому, что туркам не верит; он глубоко убежден, что Турция помощи нам не даст, а что если и пришлет свои орды, то на разорение края… да вот он пишет сам к твоей ясновельможности.
— А, пишет? — снова просиял Дорошенко. — Прочти, прочти, что нам зычит эта буйная да темная голова?
Мазепа стал читать длинное, витиеватое послание запорожского кошевого к Дорошенко, которого он признавал уже единым гетманом на всю Украйну. В письме Сирко изъявлял полную готовность помогать гетману всеми силами в осуществлении его планов, уверял, что эти планы будут заветными для всей Сечи, но он был все-таки против союза Дорошенко с неверными, так как в пользу такого союза не верил, а коли уже без союзника нельзя обойтись, — писал он, — и нельзя без чужой помощи устроить свою хату, то советовал лучше обратиться к Москве, как к единоверной державе.
Мазепа умолк. Гетман глубоко задумался.
Мазепа не решался прервать печального раздумья своего гетмана; он понимал, что в душе его происходит мучительная борьба и решается еще более мучительный вопрос: где и в ком искать дорогой отчизне спасения и какое грядущее сулит ей роковая судьба? Было тихо в покое. Осенний, холодный дождь моросил в окна, и вползала в них ранняя, угрюмая мгла…