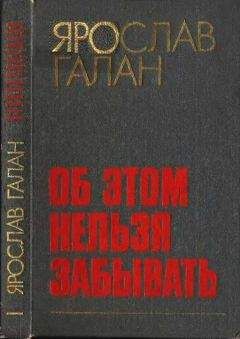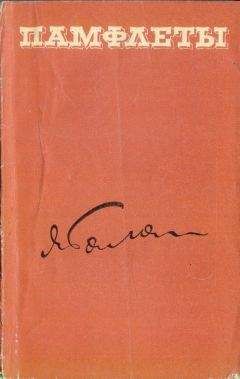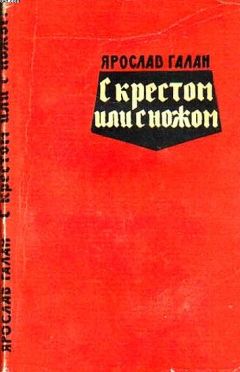Unknown Unknown - Сказание о Ёсицунэ (пер. А.Стругацкого)
Бэнкэй сказал:
– Когда подвизался я на горе Хиэй, был там один человек из храма Хагуро. Он говорил, что я точь-в-точь похож на некоего монаха по имени Арасануки из тамошней обители Дайкоку. Ну, я и назовусь Арасануки, а Хитатибо будет Тикудзэмбо, мой служка.
Ёсицунэ сказал с сомнением:
– Вы-то оба настоящие монахи, вам даже притворяться не надо. А мы-то каковы будем ямабуси в их чёрных шапочках токин и грубых плащах судзукакэ, окликающие друг друга именами Катаока, Исэ Сабуро, Васиноо?
– Ну что же, всем дадим монашеские прозвания! – бодро сказал Бэнкэй и тут же напропалую наделил каждого звучным именем.
Так Катаока стал Столичным Господином Кё-но кими, Исэ Сабуро стал Преподобным Господином Дзэндзи-но кими, Кумаи Таро – Господином Цензором Дзибу-но кими. Другим достались имена по названиям провинций – Кадзусабо, Кодзукэбо и всё в таком роде.
Судья Ёсицунэ облачился поверх ношеного белого косодэ в широкие жёсткие штаны и в короткое дорожное платье цвета хурмы с вышитыми птицами, ветхую шапочку токин он надвинул низко на брови. Имя же ему теперь было Яматобо. Все остальные нарядились кто во что горазд.
Бэнкэй, который выступал предводителем, надел на себя безупречно белую рубаху дзёэ с короткими рукавами, затянул ноги исчерна-синими ноговицами хабаки и обулся в соломенные сандалии. Штанины хакама он подвязал повыше, на голову щегольски нахлобучил шапочку токин, а к поясу подвесил огромный свой меч «Иватоси» вместе с раковиной хорагаи. Слуга его, ставший при нём послушником, тащил на себе переносный алтарь ои, к ножкам которого была привязана секира с лезвием в восемь сунов, украшенным вырезом в виде кабаньего глаза. Там же был приторочен поперёк меч длиной в четыре сяку и пять сунов. Аппарэ, что за великолепный вид был у предводителя!
Всего их было шестнадцать, вассалов и слуг, и было при них десять алтарей ои. В один из алтарей уложили святыни. В другой уложили десяток шапок эбоси, кафтанов и штанов хакама. В остальные уложили панцири и прочие доспехи. На том приготовления к пути окончились.
Всё это делалось в конце первого месяца, а второго числа второго месяца Ёсицунэ назначил выступление на следующий день. И он сказал:
– Мы все готовы к походу, но есть дела, не решивши которые мне было бы грустно оставить столицу. Живёт некто близ перекрёстка Первого проспекта и улицы Имадэгава, и из многих, кого я любил, её лишь одну обещал я взять с собою в далёкий путь. Горько мне было бы уйти без неё, даже не оповестив. И очень хотелось бы мне взять с собою её.
Катаока и Бэнкэй возразили:
– Все, кого вы берёте с собой, находятся здесь. Кто же это на улице Имадэгава? Уж не супруга ли ваша?
Ёсицунэ не ответил и погрузился в молчание. Тогда сказал Бэнкэй:
– Но как возможно притворяться ямабуси, если идти с женщиной у всех на виду? Кто же поверит тогда, что мы – отшельники? И потом: если за нами погонятся враги? Похвально ли будет бросить женщину одну брести по дорогам?
Но, подумавши, он с жалостью вспомнил: была ведь эта женщина дочерью министра Коги и лишилась отца в возрасте девяти лет. Когда ей исполнилось тринадцать, умерла её родительница, и никого у неё не осталось близких, кроме опекуна по имени Дзюро Гон-но ками Канэфуса. Была она прелестна и отличалась глубоким чувством красоты. До шестнадцати лет жила она скромно, а потом – уж как о ней прознал Ёсицунэ, но только стал он для неё единственной родной душою. Нежная глициния льнёт к могучей сосне, разделите их, и что будет ей опорой? Так, разлучённая с мужчиной, остаётся без опоры и женщина, верная Трём Добродетелям. «И кроме того, – рассудил Бэнкэй, – будет досадно, если в краю Осю он возьмёт в жёны какую-нибудь неотёсанную восточную девицу. И видно по всему, что говорит он от всей души. Для чего же не взять её с собой?» И он сказал:
– Воистину, когда речь идёт о человеческих чувствах, нет различия между знатным и простолюдином. Они не меняются от века. Благоволите сходить и разведать, посмотрите своими глазами, как обстоят дела.
И Судья Ёсицунэ, искренне обрадованный, произнёс:
– Ну что же, ты прав.
Они облачились в плащи, накинули на голову накидки и отправились на перекрёсток Первого проспекта и улицы Имадэгава к старому дворцу министра Коги.
Как во всяком обветшалом доме, там стыла роса на траве, проросшей сквозь крышу, и благоухал цвет сливы в живых изгородях. И вспомнился им господин Гэндзи из старинной книги, омочивший ноги в росе на пути в другой обветшалый дом. Оставив Ёсицунэ у средних ворот, Бэнкэй взошёл к двери дома и крикнул:
– Кто-нибудь есть?
– Откуда вы? – спросили его.
– Из дворца Хорикава.
Дверь распахнулась. Супруга Ёсицунэ увидела Бэнкэя.
Всё это время господин давал ей знать о себе лишь через посланцев своих, и теперь она в великом волнении выступила из-за шторы с единой лишь мыслью: «Где-то он сейчас?»
– Господин пребывает во дворце Хорикава, – сказал Бэнкэй. – Завтра он уезжает на север, и он наказал мне: «Передай. Обещался я взять тебя с собой, что бы ни было, но все дороги перекрыты, и я не хочу подвергать тебя трудностям, если ты и согласишься пойти. Я отправляюсь вперёд один, и, если мне повезёт остаться в живых, осенью я пришлю за тобой. До этого срока жди меня терпеливо». Так он велел передать.
На это она сказала:
– Если не берёт с собой сейчас, зачем присылать за мной потом? Вот он уходит. Но никто, ни стар ни млад, не знает сроков своих, и, если случится со мной неизбежное, господин пожалеет тогда: зачем с собою не взял? А тогда уже будет поздно. Когда любил, взял с собой по волнам к берегам Сикоку и Кюсю. Выходит, теперь, не ведаю когда, переменился ко мне и сердце его пылает враждой. Ни слова, ни знака не имела я от него с тех пор, как отослал он меня в столицу из бухты Даймоцу, или как она там зовётся, но по душевной слабости всё верила я, что вот он вернётся и скажет слова утешения. И что же? Снова слышу я горькие слова, и сколь же это печально! Есть у меня на душе, что мне хотелось бы поведать ему, но не знаю, как угодно будет ему это принять. И всё же скажу, ибо если случится со мной что-нибудь, то тяжкий грех останется на мне и в предбудущей жизни. С прошедшего лета я в смятении, мне тяжело – знающие люди говорят, будто я в положении. Время идёт, я чувствую себя всё хуже и хуже, так что вряд ли они ошибаются. Когда станет это известно в Рокухаре, меня схватят и отправят в Камакуру. Ёритомо не ведает жалости. Сидзука пела песни и танцевала танцы свои и тем избегла однажды кары, но мне так поступать не пристало. Уже и сейчас идут обо мне недобрые слухи, и я совсем пала духом. Ну что ж, коли супруг мой в своём решении твёрд, тогда ничего поделать нельзя.
Так сказала она, и слёзы неудержимо заструились из её глаз. Прослезился и Бэнкэй.
Тут заглянул он в её комнату, озарённую сияньем светильника, и увидел, что там на двери начертаны женской рукой такие стихи:
Если он разлюбил,
Тогда изменю и я
Своё сердце.
Разве можно любить человека,
Который мучит меня?
Прочёл он это и с сожалением подумал: стихи говорят о том, что ей никогда не забыть о своём господине. И он поспешил к Судье Ёсицунэ и всё ему рассказал.
– Если так… – молвил он и внезапно вышел к своей супруге. – Слишком уж ты вспыльчива, – сказал он ей. – А я вот пришёл за тобой.
Ей показалось, что она во сне. Она хотела спросить о чём-то, но лишь без удержу плакала – такая горькая тяжесть лежала на сердце.
– Значит, ты меня не забыла? – сказал Ёсицунэ.
– Со дня разлуки забывала ли я вас хоть на миг единый? – ответила она. – Но вот думала я о вас, а отклика на думы мои не было…
– Ты вспоминала прежнего меня, а сейчас, когда видишь меня таким, не отвращает ли это чувства твои? Погляди, в каком я виде!
И Ёсицунэ распахнул верхнюю одежду и явил взору её убогое дорожное платье цвета хурмы и высоко подхваченные хакама. И столь непривычен был его вид, что она испугалась даже: чужой, незнакомец!
– А во что же нарядите вы меня?
Бэнкэй сказал:
– Поскольку госпожа кита-но ката пойдёт вместе с нами, мы придадим ей вид юного служки. Ликом она похожа на отрока, мы его подкрасим, набелим, и это будет пригожий отрок. И возраст госпожи подходит как нельзя лучше. Самое же главное – это чтобы госпожа вела себя сообразно и ни в чём не сбивалась. Ямабуси на севере много, и, когда протянут ей, сорвав, цветущую ветку со словами: «Это господину ученику», должно ей отвечать на мужской лад, оправить на себе одежду и вести себя, как ведут юные служки, а не застенчивая и смущённая дама.
– Ради безопасности господина я буду вести себя в пути как угодно, – отвечала она. – И раз так, теперь лишь одно движет сердцем моим – немедля отправиться в путь. Ах, скорее, скорее…
Тут время и обстоятельства так сложились, что Бэнкэю пришлось взять на себя заботу о наружности госпожи, хотя никогда прежде не был он приближён к её особе. И безжалостно срезал он по пояс волосы, струившиеся, словно чистый поток, по её спине ниже пят, зачесал их высоко и, разделив на два пучка, кольцами укрепил на макушке, слегка набелил её личико и тонкой кистью навёл ей узкие брови. Затем облачил он её в платье цвета светлой туши с набивным цветочным узором, ещё одно платье цвета горной розы, ярко-жёлтое, со светло-зелёным исподом, а поверх – косодэ из ткани, затканной узорами; нижние хакама скрылись под лёгким светло-зелёным кимоно. Затем надел на неё просторные белые хакама «большеротые», дорожный кафтан из лёгкого шёлка с гербами, узорчатые ноговицы, соломенные сандалии, высоко подвязал штанины хакама, накрыл голову новёхонькой бамбуковой шляпой, а к поясу подвесил кинжал из красного дерева в золочёных ножнах и ярко изукрашенный веер. Ещё дал он ей флейту китайского бамбука и на шею – синий парчовый мешок со свитком «Лотосовой сутры». И в обычной-то своей одежде ей себя на ногах нести было трудно, а со всем этим грузом она едва стояла. Так, наверное, ощущала себя Ван Чжао-цзюнь, когда увозили её к себе варвары сюнну.