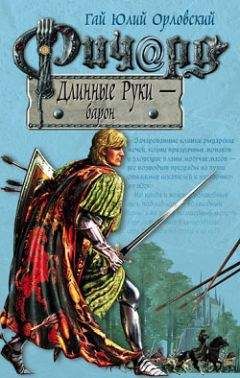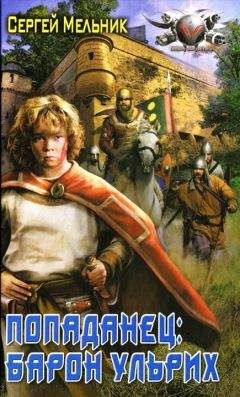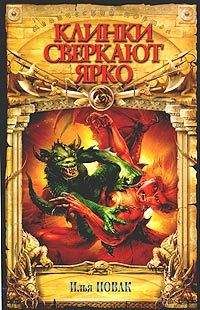Евгений Анташкевич - 33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине
– Однако мы должны были очень проголодаться, а, Мишель? Так, приступим?!
Но, несмотря на голод, они утолили его быстро, и дело дошло до таёжных заварок.
– Одинцов женился, – неожиданно, после некоторого молчания, произнёс Штин.
Сорокин как-то хотел проявить по этому поводу радость, но Штин выставил вперёд руку:
– Не торопитесь! Уже в третий раз! И каждый раз норовил, подлец, с венчанием! И замечу я вам, ни одного скандала, прямо-таки – сэр Роберт Лавлейс! Султан турецкий! И девки-то хороши! Но самое удивительное – они между собою ладят! Представляете? Все трое! И вот это всё, – Штин обвёл рукою стол, – от них троих! От одной грибы и медовуха, от другой рыба, от третьей картошка и так далее… Сам он в огород или в тайгу ни ногой… Не моё это, говорит, дело! Кашеварит, правда, сам!
«Вот бы его к Суламанидзе!» – пришла в голову Сорокину невольная мысль.
– …И изрядно! Моего здесь – только фазан, кстати, вчера подстрелил пять штук!.. Еле его спас от их отцов и братьев! Так даже и не я спас, а они! Вот такие дела, Михаил Капитонович!
Сорокину было нечего сказать, он только снова увидел Одинцова, как будто бы тот стоит прямо тут, и рассмеялся. Рассмеялся и Штин, и вместе они смеялись и наливали друг другу под отменную закуску.
– И вот ещё что! Тут живут корейцы, несколько семей, так что он удумал, он научился у них готовить папоротник, отличное блюдо, прямо чистые грибы…
Заканчивали чаем и папиросами, и в дверь тихо постучали.
– Вы тут наслаждайтесь, – вставая, сказал Штин. – А я пойду посмотрю, як там Иванэ распорядился с лошадьми, только не засните, нам ещё предстоит разговор.
Сорокин остался один и стал вспоминать сегодняшний день. Как же тут хорошо, думалось ему: тайга, свежий воздух, столько вкусной еды, чудесная медовуха, а Одинцов! «Ох и наплодит он тут смолят!» – как-то Штин обмолвился, что его денщик из Смоленской губернии. Мысль о «смолятах» перескочила у него на выпускниц Смольного института благородных девиц. «Смолят и смолянок!» – подумал он и вспомнил галерею портретов выпускниц Смольного института работы Левицкого. Это рассмешило его ещё больше. «Глянуть бы на них! Маньчжурские смолянки! Всё же любопытно!»
Элеонора сдвинула каретку, прокрутила валик и прочитала последнее предложение: «После убийства Распутина события в Петрограде стали нарастать, но незаметно для обывателей и политиков». Ей не понравилось. По смыслу всё было правильно, однако что-то было не так. Не вытаскивая листа, она зачеркнула предложение и пошла к окну.
Был полдень 28 апреля.
Они с Джуди приехали на побережье Ирландского залива на конечную станцию железной дороги в Холихэ́д западнее Манчестера сегодня в 6 часов утра. У начальника станции спросили, где можно остановиться на две недели, и он пригласил их к себе, сказав, что у него есть для гостей отдельный уютный домик недалеко от берега моря. Поскольку это был единственный поезд в течение суток, он сам же вызвался подвезти и пригласил в коляску. Багажа у них было немного: три чемодана и портативная пишущая машинка.
Домик порадовал Элеонору и огорчил Джуди. Он был мал, неказист и, построенный из дикого камня и накрытый бурой черепицей, казался холодным, однако внутри оказался уютным, с кухней и тремя под низким потолком комнатами, расположенными вокруг камина, топившегося из гостиной.
Когда-то давно, ещё в России, ей именно так представлялось место, где она будет писать книгу: «…незаметно для обывателей и политиков», – повторяла она предложение и смотрела на ровный, поросший яркой зеленью понижающийся просторный берег и море.
«Я приехала в Петроград через три недели после убийства Распутина и разговаривала с журналистами и дипломатами. С русскими я тогда ни с кем не была знакома. – Она вернулась к камину и стала греть о его тёплую шершавую стенку ладони. – Все, с кем я говорила… для них убийство Распутина было неожиданностью, но!.. Всё! Я поняла!» Она села за стол: «Надо так: «Патриотические слои русского общества давно мечтали избавиться от влияния Распутина на Императорскую семью. Однако его убийство было неожиданностью, и оно было сравнимо с первым подземным толчком грядущего землетрясения, но ни среди политиков, ни тем более среди обывателей не обозначился человек, который мог бы правильно оценить влияние этого убийства на ход дальнейшей истории России. Казалось, что свершилось долгожданное и справедливое возмездие, оно исправит всё то неправильное, что было допущено во внутренней и внешней политике, и дальше всё будет развиваться так, как этого ожидало общество: победы на войне, успокоение и консолидация внутри страны. Никто не смог распознать невидимых, но нараставших перемен».
«Вот! Примерно так и Антон Иванович мне пишет!» – подумала она и поняла, что на сей раз её мысль обрела нужную форму. Она напечатала это и стала перебирать лежавшие вперемежку рукописные и печатные страницы: среди них на отдельной скрепке были письма от русских корреспондентов. Она сняла скрепку, разложила письма веером, и на глаза сразу попало последнее письмо от Михаила Сорокина. «Чёрт! Я ведь совсем не то искала!» – подумала Элеонора, отложила его в сторону, откинулась на спинку деревянного скрипучего стула и ощутила, как хорошо греет камин.
В занятой ею комнате помещалась кровать, небольшой комод и зеркало над ним, письменный стол и стул, на котором она сейчас сидела. Справа было окно. Комната была покрашена белой известью и по потолку прочерчена старыми из морёного дуба балками. Под потолком висели пучки сухого вереска с сиреневыми комочками свернувшихся цветков. Утром она разложила вещи, потом перешла в комнату матери, где был большой платяной шкаф, потом они с Джуди завтракали в гостиной, и когда она сюда вернулась, то поставила на стол пишущую машинку и приготовила бумаги. И только сейчас она оторвалась от работы и огляделась, ей удалось сформулировать мысль, и она вздохнула.
«Хочу прогуляться!» – подумала она.
Дул ветер. Они с Джуди почувствовали его, как только сошли с поезда. Он дул в одну сторону и на одной ноте, северо-западный, и у Джуди разболелась голова.
Элеонора взяла письма, накинула пальто, прихватила плед и вышла. Она миновала окружённый низкой каменной оградой пустой двор. Перед уходом заглянула к Джуди, та лежала на кровати с мокрой салфеткой на лбу.
«Может быть, я зря её с собой взяла, и ещё настаивала, чтобы она подышала свежим морским воздухом. И предупреждали, что здесь в это время дуют ветры! Ну, пусть! Дальше будет видно, в конце концов, нас тут никто не держит».
Она прошла с четверть мили к берегу и села на камень. Под ногами был галечный пляж, но спускаться к воде не захотелось. Ветер переменился на восточный и тёплый и дул в лицо, он гнал по морю волны, которые издалека катились мелкими барашками, а на отмелях рисовали красивые округлые линии. Спокойствие вокруг было то самое, искомое: высокое небо, тёплый ветер, бесконечное море, зелёный с белыми точками клевер. Она стала перелистывать письма, и вдруг её как будто бы кто-то толкнул в бок, и она хлопнула письма о колени: «Этот нахал, Сэм Миллз!»
Позавчера она с ним всё-таки встретилась – он оказался настойчивым. Когда после приёма Элеонора с матерью вышла на улицу, они не обнаружила закрытого «форда», зато с открытым экипажем и на козлах оказался Красный Сэм. Отказать ему при всех Элеонора не могла, но ей было страшно неудобно перед матерью, которая была легко одета, слава богу, Сэм оказался предусмотрительным, и в коляске лежал тёплый плед, но это было неловко, потому что клетчатый шотландский плед никак не гармонировал с маминым норковым палантином. Здесь Сэм дал промашку и повод для коллег подшучивать над его оплошностью и столь явно выраженными желаниями. Джуди, конечно, накинула плед, но весь путь до дома ехала отвернувшись от Элеоноры, а потом ворчала на неё за то, что та «дала повод». А потом Сэм встречал её в редакции каждый раз, когда она туда приходила. Он предлагал свою помощь, вплоть до того, что она будет диктовать, а он печатать под диктовку, к слову сказать, печатал он хорошо и быстро. В общем, он вёл себя так, что Элеонора начала чувствовать себя дичью, а Сэма охотником. Это было ужасно. Она думала: «Неужели он набрался этого у немцев?» – но не могла себе ответить, потому что у неё не было знакомых немцев. И не было возможности, не выдав себя, выяснять каждый раз, когда она собиралась в редакцию, там ли Сэм, и ей казалось, что он этим пользуется. В редакции стали шептаться, она об этом узнала, но не ходить в архив не могла. Это была западня. Сэм ей мешал.
В том возрасте, когда у девушек появляется интерес к мужчинам и при этом они начинают различать в них человеческое, Элеонора оказалась в России.
Она вздохнула. Ветер шевелил письма, она крепко прижала их к коленям, и тогда он стал шевелить её волосы.
В России она, конечно, ловила на себе заинтересованные взгляды и среди коллег-журналистов, и в высшем обществе, но эта заинтересованность проявлялась очень скромно, даже скрытно. Однако когда она всё же проявлялась, у Элеоноры была защита, она всегда могла сказать, что «плохо знает по-русски», и это было правдой, но чаще русские мужчины чутко улавливали её настроение и не докучали, и тогда от них оставалась только улыбка, как от знаменитого Чеширского кота… Иной раз это было даже обидно. Через короткое время она поняла, что это есть другая культура – культура понимания на недосказанном, и она стала её ценить, а ещё чуть позже научилась ею пользоваться. Сэм приехал из Германии и навалился на неё, как тевтон! Она про себя так и стала его звать – Тевтон.