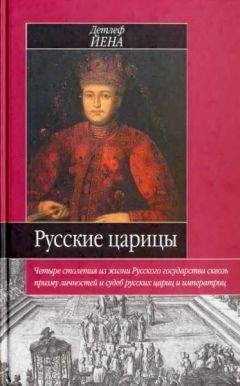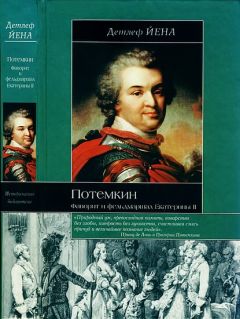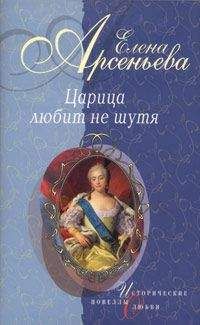Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
Сумасшедшие глаза смотрели с улыбкой.
Корчак молчал.
Три человека, стоявшие на крыльце, подняли головы, услышав имя.
– Отец, это он? – спросил Алесь.
– Ты не слушай, сын, – сказал пан Юрий, – мы не имеем права вмешиваться.
Кроер делал шаг то вправо, то влево – рассматривал.
– Так господин Корчак уже и эполет приобрел? В генералы пану Корчаку захотелось? Может, пан Корчак и в императоры метит?
Корчак молчал.
– Намеревается, – с деланным сочувствием сказал Кроер. – Неграмотный, бедолага. Не читал. Не знает, чем царь Мурашка кончил.[86]
– Почему не знаю? – сказал вдруг Корчак с каким-то залихватским отчаянием. – Очень даже хорошо знаю:
Головонька бедная от жара трещит,
Ножки на красном на железном седле.
В ответ пан Кроер ударил крестьянина, но, видимо, не очень сильно, потому что был обессилен пьянкой.
Алесь смотрел на происходящее растерянными глазами: он впервые видел, как бьют связанного.
Голова у Корчака не пошатнулась от удара. С какой-то злобной радостью он сказал:
– Плохо бьешь… А жаль, паночек, что меня по дороге к своим схватили. Ух, как бы из этого гнезда дымком рвануло! – Корчак глотнул воздух. – Жаль… Одного жаль – рассчитаться не успел…
Кроер отдыхал, и глаза его были мутными от гнева.
– Так у тебя еще и свои были? – тихо спросил он.
– А как же. Не святым же я духом жил от жатвы до масленой. Прятали, помогали.
– Где прятали? Кто?
– А это ты уж сам дознайся.
Кроер плюнул и снова, двигаясь как-то наискось, устремился по грязному снегу к связанному.
– Где? – Он ударил снова, в этот раз под нижнюю челюсть.
Корчак сплюнул кровь в снег.
– Угодил-таки, – сказал он. – Конечно. Над пешим орлом и ворона с колом.
Это было уже слишком. Кроер ощутил свою слабость и стал искать глазами что-нибудь более тяжелое.
Как раз в этот момент конюх привел господам лошадей.
Пан Юрий разбирал поводья. И тут Кроер заметил в руках у конюха корбач. Рванул его из рук дворового и с подскоком, согнувшись, ударил Корчака по лицу. Плеть не была подвита свинцом, лишь гибкой медной проволокой, и это спасло Корчака от немедленной смерти.
Лицо крестьянина залилось кровью. Губы у Кроера дрожали. На щеках пятнами появлялся и исчезал румянец. Десять, двадцать, сорок ударов…
Алесь смотрел на расправу обезумевшими глазами. Били связанного человека, который не мог защищаться…
Корчак не мог уже стоять. Он сел на снег, залитый кровью, хватал воздух.
– До-бей, – только и сказал он.
И упал лицом в снежную кашу.
– Аз-зиат, – внешне спокойно сказал пан Юрий и добавил: – Александр, в седло.
Алесь не в силах был отвести глаза… Удар… Еще… Еще удар. Как по сердцу.
Человек в снегу вытянулся.
И тогда, сам не понимая, что он делает, Алесь бросился к Кроеру и подставил руку. Плеть рассекла одним махом одежду и кожу, обвилась вокруг запястья. Алесь перехватил ее и со всей силы рванул.
Ему удалось вырвать окровавленную плеть из рук Кроера. Бледный, с красными пятнами на щеках, Кроер недоуменно смотрел на Алеся.
– Сволочь! – В детском горле клокотало. – Низкий, злой человек.
Кроер угрожающе двинулся на него.
И тогда Алесь, трясясь от злости, зная, что этот может ударить его, размахнулся и рукояткой со всей силы влепил в перекошенное лицо Кроера.
Кроер схватился за челюсть. Потом поднял кулаки.
…И тут сильная рука пана Юрия отбросила его от сына. Возле них мелькнул Бискупович, схватил плеть и отшвырнул ее в снег.
– Слушай, ты, – сказал пан Юрий, – дерьмо! Если ты тронешь его, желчью рыгать будешь…
– Подождите, Загорский, – спокойно сказал Бискупович. – Не пачкайте рук.
– Стра-ажа! – едва выдавил из себя Кроер, и это прозвучало тихо, но гневно.
Руки пана Юрия и Бискуповича легли на рукояти кордов.
– Вы пожалеете, Кроер, – спокойно сказал Бискупович. – Чтоб проломить вам голову, достаточно секунды.
Кроер оглянулся. Но жандармы, очевидно, боялись вмешиваться в ссору высоких господ. Стояли молча.
Пан Юрий спокойно усадил Алеся на Ургу и подвел Бискуповичу коня.
Они вскочили в седла. С места – только грязные снежные брызги полетели – взяли вскачь.
…Верст через пять, когда стало ясно, что погони не будет, пустили разгоряченных лошадей рысью. Алесь засучил рукав, рассматривая кровавый рубец.
– Он меня ударил, – недоуменно сказал он.
Отец с состраданием смотрел на сына.
– Ты погорячился, сынок. Потому что три человека могли б сложить головы за одного, которого все равно ожидает Сибирь, смерть в рудниках… А как бы горевала твоя мать… Или жена пана Бискуповича… Обещай мне, что ты…
Алесь не очень вежливо ответил:
– Этого я не могу обещать.
– Правильно! – сказал Бискупович.
…Корчака действительно ждала Сибирь. Когда Мусатов, услыхав шум, выбежал из дома, Корчак, залитый кровью, но все еще живой, без сознания лежал на снегу.
Мусатову удалось отговорить разъяренного пана от погони. Корчака он отдал жандармам и приказал везти в Суходол.
А Кроер приложил к разбитой челюсти снег и направился в дом.
– Водки, – только и смог сказать он загоновым.
…Начался неистовый, страшный разгул. Три дня Кроеровщина захлебывалась в вине. Три дня в имении царил пьяный угар.
На пятый день на ногах остались лишь Кроер да Иван Таркайло. Сидели при свете одной свечи в домашней молельне, чокались друг с другом и обезумевшими глазами следили друг за другом, чтобы каждый выпил до капли. Кроер спьяна начал было уже процеживать вино из бутылки сквозь пальцы, потому что в каждой бутылке сидел черт, очень похожий на морского конька, но все как-то обошлось. Чтоб не ругаться, решили весь вечер разговаривать по-французски. Иван этого языка не знал, а пьяный язык Кроера с трудом мог сплести два-три слова.
– Шли бы вы спать, черти, – грубил Петро, лакей Таркайла.
– О, мои диё… нон… Алон! Перепить – кураж! – плел неведомо что Таркайло.
Петро смеялся. Кроер смотрел на него мутными глазами.
– А ты чего ржешь, Петро? Понимаешь нас?
– Он зна-ает, – говорил Таркайло.
– Знаешь французский язык?
Петро обиделся:
– А то как же.
– Ну, так какой же он?
– Красный, – сказал Петро. – Как…
– Пр-равильно, – сказал Таркайло.
Оставив одуревших от вина господ, Петро закрыл их в молельне (вдруг надумают освежаться в проруби или скакать на конях), а сам пришел в людскую и сказал кухарке:
– Последние дни доживают. И живут не по-людски, и пьют, как перед погибелью.
– Эка невидаль! – бросила кухарка. – Теперь еще, говорят, в Петербурге змея пустили по железным колеям… Змей, понимаешь, бегает по дорогам. Это уже конец света.
– Так, – согласился Петро. – Этот не пощадит. Этот сожрет всех.
XXIII
Первыми выпустили свои «котики» вербы. Перед пасхой начали сочиться прозрачным соком пни срубленных берез. Затем почки стали зелеными, а леса темными. Перед Купалой заплакали травы – назавтра им суждено было погибнуть. А затем пришел черед полечь колосьям.
Год не порадовал. Он многое обещал дружной, теплой весной и спорыми, буйными дождями. Но ничего не дал. Снова не дал. В который уже раз.
Дожди шли непрерывно. Ростки захлебывались в глубокой холодной грязи, желтели и гнили. А с конца апреля навалились холода и цепко держали нивы до самой середины июня. Земля была липкой, как глина, выброшенная с самого дна могилы.
Потеплело лишь в конце июня. Холод словно подготовил почву под свою зимнюю страшную жатву и щедро бросил людям ненужное теперь тепло.
На озими не собрали даже потраченных семян, поэтому людям пришлось спасаться – перепахивать поля и засеивать их под ярину. И этот поздний сев едва закончили на Купалу, а это означало, что осенью всходы определенно побьют заморозки.
Все еще, третий год подряд, неизвестная хворь одолевала бульбу, и клубни ее разлезались в пальцах и были черные, как грязь, – не отличишь от земли.
Пан Юрий и старый Вежа в конце июля наполовину опустошили свои амбары ссудами. Понимая, что надеяться не на что, они отпустили крестьян на годовой оброк. Пускай идут плотогонами, пускай отправляются в извоз, на строительство железной дороги, лишь бы не голод, лишь бы не опустошить амбары до дна. Ведь неизвестно еще, что будет в следующем году.
В конце июля клич о помощи долетел из местечка Свислочь, где жила дальняя родственница пани Антониды, двоюродная сестра ее матери, Татьяна Галицкая.
Пан Юрий решил отправить туда обоз семенного зерна – для следующего года. Послали еще и триста рублей денег, на случай настоящего голода, чтоб хоть раз в день кормить горячим детей, женщин и слабых (у тетки было что-то около восьмидесяти душ, жила она одна, просила только семян, – возможно, как-то и перебьется с людьми).