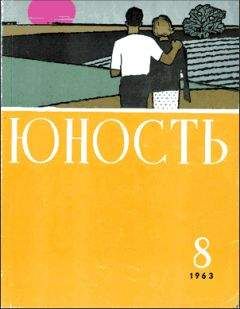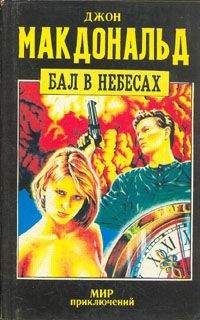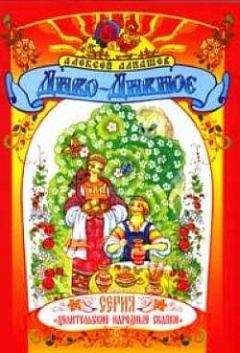Анатолий Виноградов - Повесть о братьях Тургеневых
– Ваше превосходительство, кажется, недовольны? – обратился к нему Розенкампф.
– Решением я доволен, – сказал Тургенев, – но способом сего решения человек, чтущий закон, доволен быть не может.
– Переходим к дальнейшим, – заявил Розенкампф.
Вечером, возвращаясь домой, братья взяли извозчика и молча ехали до Невского. При повороте от военного министерства Николай Тургенев спросил:
– Что это за дурак в мундире так неудачно предлагал вопросы по поводу байроновской поэмы?
– Разве ты его не знаешь? Это брат Аракчеева. Надо тебе сказать, что лучше было бы, конечно, эту поэму не читать. Посмотри, как Розенкампфа передернуло. Кстати, она с тобой?
– Со мной, – сказал Николай.
Проезжая мимо Михайловского замка, Александр Иванович Тургенев внимательно смотрел на покои Татариновой.
– Так поздно, – сказал он, – а в окнах всегда этот странный свет. Посмотри, не кажется ли тебе, что это свет семи восковых свечей. Что там, молитвы, что ли, какие-нибудь поют?
Николай Тургенев пропустил это замечание мимо ушей. Он с любопытством рассматривал извозчика, когда тот оборачивался и скалил зубы.
– Ты чей? – спросил он.
– Его сиятельства графа Разумовского.
– Откуда? – спросил Тургенев.
– Деревня наша в Рамбовском уезде.
– На оброке? – спросил Тургенев.
– Да, платим по тридцать два рубля с ривицкой души; прежде меньше платили, да недавно граф увеличил оброк. Брату еще хуже приходится. Он на четыре месяца в Петербурге нанимает за себя работника и платит ему восемьдесят рублей, а восемь месяцев, воротившись, опять по три недельных дня на барщине, – это чтобы старые долги за отца его сиятельству заплатить извозчичьей выручкой.
– Как же вы живете? – спросил Николай Тургенев.
– Вот сына отняли да продали господину Альбрехту.
– Слышал о таком, – сказал Николай Тургенев.
– Как мы живем, как не помираем, одному богу известно, – продолжал крестьянин. – Как продали моего парня – нет работника в доме. Прибежит в праздник от господина Альбрехта – его деревня в четырех верстах от графской усадьбы – и давай просить хлеба. Никогда у них своего хлеба нет.
Николай Тургенев обратился к брату по-французски:
– Как не противиться таким помещикам уничтожению рабства? Что такое Разумовский? Я часто вижу эту глупую и безобразную образину на набережной и на бульваре: гуляет, ходит, чтобы с большею жадностью есть и лучше спать. В других государствах эти тунеядцы коптят небо без непосредственного вреда ближним – здесь они угнетают их, чтобы, чтобы... черт знает на что и для чего и в особенности почему. А этот Альбрехт, с пребольшим пузом, играет ежедневно в карты, в клобе, и фигура его цветет глупостию, скотским бесчувствием, эгоизмом!
Расплатились с извозчиком. Вошли к себе. Встретили Лунина и Чаадаева, расположившихся без хозяев. Лунин, молодой, блестящий, только что приехавший из Парижа, Чаадаев с оголившимся черепом и живыми, необычайно блестящими глазами, очевидно, беседовали уже долго и на Тургеневых посмотрели словно на какую-то помеху для разговора. Здоровались, приветствовали друг друга.
– Сенаторы! – кричал Лунин. – Прямо сенаторы! А я слышал, что сенаторская порода вымирает. Друзья, не миновать вам завести сенаторский завод – pour perpetuer la race[32].
– Перестань, Лунин, – говорил Чаадаев. – Хоть к этим-то не приставай – они не нынче-завтра поскользнутся на дворцовом паркете. Сенаторами им не быть.
Раздался звонок. Старуха Егоровна доложила, что пришли господин Муравьев, господин Яков Николаевич Толстой, господин Всеволожский и Пестель.
– Как это вы сошлись у двери? – спросил Александр Иванович.
– Вопрос негостеприимный, – ответил Всеволожский.
– Почему негостеприимный? – возразил Александр Иванович. – Напротив, я страшно рад видеть Павла Ивановича и...
– А нас он не рад видеть, – сказал Яков Толстой.
– Да нет, всех рад видеть. Придется иметь большой разговор о деле.
Яков Толстой подошел к Чаадаеву.
– Какие вести от Пушкина? – спросил он.
– Пишет редко, – ответил Чаадаев, – но написал кучу прелестей.
– Это вам он писал? – спросил Яков Толстой:
Товарищ, верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
– Да, мне, – ответил Чаадаев. – А что?
– Мне он написал другое, – ответил Яков Толстой:
Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.
– Меня это не удивляет, – сказал Чаадаев, – уПушкина зоркий глаз, я ему верю: разным людям – разная судьба.
Подошел Лунин.
– Ну, так что это за случай в Семеновском полку? – спросил он, продолжая разговор.
– Да, я не кончил, – сказал Чаадаев. – Ведь командир полка Шварц – это совершенная скотина. Из-за его самодурства самый грамотный, самый скромный и, сказал бы я, самый гражданственный полк сейчас раскассирован.
– Правда ли, что там была читка запрещенных книг с офицерами? – спросил Яков Толстой.
– Не думаю, – сказал Чаадаев. – В солдатской лавочке, правда, продавали книги. Дело, конечно, в том, что Аракчееву не нравился товарищеский дух полка, тесная дружба с офицерством; на фоне событий в Неаполе и Пьемонте полк показался ему неблагонадежным. Они нарочно провокатировали движение возмущения, вместо внесения спокойствия. А когда первую роту посадили в крепость, то весь полк отказался выходить из казарм до полного воссоединения с первой ротой. Солдат, голодных и измученных, отвезли в Финляндию и заключили в Свеаборгскую крепость.
Лунин покачал головой.
– Это уж серьезно, друзья.
– Да, – сказал Николай Тургенев. – Дисциплина имеет свои пределы, так как права природы и рассудок имеют свое необходимое пространство. Хоть семеновское дело прошедшее, а все-таки не могу без содрогания вспомнить тот день, восемнадцатого октября двадцатого года, когда поутру полк проходил по Фонтанке. Я еще не знал, в чем дело, и спрашивал: «Куда?» – «В крепость», – отвечали солдаты. – «Зачем?» – «Под арест». – «За что?» – «За Шварца». Тысячи людей, исполненных благородства, погибли за человека, которого человечество отвергло.
– И еще миллионы будут гибнуть, – сказал Лунин, – за человека, который является воплощением лжи.
– Что же делать будем? – спросил Пестель. – Вводить испанскую конституцию, ограничивающую самовластие? Но, конечно, выведение рабов из крепостного состояния не может быть первою мерою правительства.
– Вот вы как смотрите, Павел Иванович, – сказал Николай Тургенев.
– Да, я так смотрю, – злобно возразил Пестель. – И вас мы заставим смотреть так же, если вы покоряетесь дисциплине общества.
– На будущее я смотрю иначе, – сказал Николай Тургенев. – Я изверился в самодержавии и не верю в конституционных монархов. Почитаю необходимым волею народа учреждение республики и высылку за границу всех представителей нынешней династии.
– Что, что, что?! – закричал Яков Толстой. – Это сильно, очень сильно. Но какой же вы молодец! Да, кстати, чтобы не забыть. Энгельгардт говаривал мне, что полицмейстер начал против нас дело о подкидывании каких-то вырезанных листков в казармы.
Николай Тургенев пожал плечами.
– Что делать? – сказал он. – Полицмейстер подкидывает клеветнические листки против меня. Ну, здесь все только свои. Откинемте шутки в сторону и вспомнимте, что вы послали меня в Москву для закрытия Союза благоденствия, что вы согласились со мною при самом учреждении союза выкинуть прусские параграфы о верности государю и династии. О чем тогда мы спорили? О том, чтобы члены Союза благоденствия, буде они помещики, обязывались содействовать освобождению крепостных. Вы этого не хотели. Вы настояли на своем. Этот пункт был выброшен. Неужели и теперь настаиваете на своем заблуждении, даже когда мы здесь организовали общество более стойкое, более крепкое, более решительное? В свое время ехал я в Москву, тая надежду на революционное решение Союза благоденствия. Я был председателем последнего собрания, и я уверился, сколь ненадежны были многие члены оного. Я поспешил с закрытием и роспуском Союза благоденствия лишь для того, что надежнейшие и вернейшие стали учредителями нового общества. Всем же остальным сказано было, что императору известно существование Союза благоденствия и что гнев его может настигнуть каждого. Как тогда проклинали меня москвичи, как называли изменником делу свободы.
Чаадаев подошел к Николаю Тургеневу и шепнул ему:
– Прекрати, друг, остановись, пока не поздно.
– Ну, что же, Александр Иванович, давайте угощать гостей, – закончил неожиданно Николай Тургенев.
Глава двадцать седьмая
Николай Иванович Тургенев с пером в руке сидел над рукописью и записывал медленно, с перерывами: