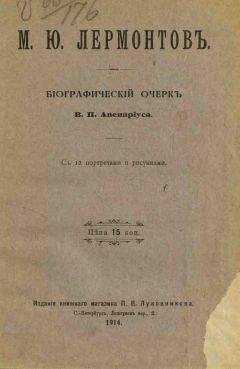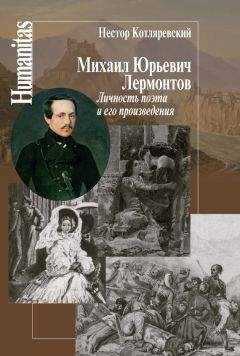Исай Калашников - Последнее отступление
Начинался рассвет, подул ветерок, и ветви тальника тихо зашептались. Над рекой, рассекая крыльями воздух, пронеслась стая чирков. Баргут окончательно успокоился. Подтянул подпруги, тронул лошадь, но тут же остановился: явственно послышался треск ломаемых ветвей. Видно, возвращается его преследователь. Что такое? Он не один. Разговаривают. «Но ничего, все равно в дураках останетесь, — успокоил себя Баргут. — Проеду еще немного к улусу, переправлюсь через реку, тогда не найдете». Раздумывая так, Баргут стал пробираться сквозь заросли тальника. Что за наваждение? Впереди тоже слышен голос. Капкан! Через реку нельзя переправиться — увидят, в степь податься — настигнут. Баргут поехал к берегу реки. Здесь она делала крутой поворот, и в колене образовалась тихая заводь. С берега нависли косматые ветви тальника.
Голоса приближались. Можно было уже разобрать отдельные слова. Васька соскочил с лошади, привязал повод к седлу и ударил ее рукой по крупу. А сам уцепился за ветви куста и скользнул ногами в заводь. Вода у берега не достигала груди. Васька присел. Теперь все его тело было под водой, лишь голова, как пень, торчала над мелкой рябью заводи. Он пригнул несколько веток и укрылся под ними.
— Вот он! — закричали на берегу.
— Где?.. Это только лошадь. Держите ее!
Хлопнул бич, гулко застучали копыта, затрещали кусты, и все стихло.
«Черта с два поймаете! — подумал Васька. — Жеребчик к себе на полверсты не подпустит».
Опять затрещали кусты.
— Ну что? — спросил хриплый голос.
— Удрал!
— Разини! Вам только хромых коров ловить. Давайте искать. Вор где-то тут. Убежать он не мог, забрался куда-нибудь в кусты и сидит.
У Васьки стучали зубы, руки, сжимавшие ветки, одеревенели. А на берегу все еще переговаривались. Голоса то удалялись, то приближались. Уж совсем рассвело, всходило солнце. «Ежели и не найдут, сам подохну, окоченею», — с тоской подумал Васька. С восходом солнца громко защебетали птицы, на другом берегу закуковала кукушка. Васька, как в детстве, про себя спросил: «Кукушка, кукушка, сколько лет мне осталось жить?»
«Ку-ку, ку-ку, ку-ку…»
— Как сквозь землю провалился, — над Васькой переговаривались двое.
— Теперь не найдем, убежал.
А кукушка все отсчитывала Ваське года:
«Ку-ку, ку-ку, ку-ку…»
— Ну, пойдем. Все кусты обшарили, нигде нет. — К двум голосам на берегу присоединился третий.
— Пошли.
Васька сидел еще долго, боялся, не оставили ли преследователи караульных. Весь закоченел. Кое-как на четвереньках выполз на берег, оставляя позади ручьи воды. Пошел, хватаясь руками за ветки тальника. Первый десяток шагов сделал с великим трудом. Ноги стали чугунными, не слушались, не сгибались в коленях. Но с каждым шагом идти становилось легче, и скоро Васька уже побежал, хлопая мокрыми полами зипуна.
На заимке он снял с себя все, выжал, повесил на солнце сушить, а сам лег в постель. Он пролежал бы так целый день, но к вечеру должен был приехать Савостьян, и Ваське волей-неволей пришлось запрягать лошадь в соху. Ежась от холода, он натянул мокрую одежду и пошел ловить смирную, ленивую Гнедуху. Рядом с ней стоял жеребчик и щипал траву. Васька расседлал его и отпустил на волю.
Нужно было докончить клин за Сорочьей горкой. Савостьян хотел привезти семена и засеять его собственноручно. Эту работу он еще не доверял Баргуту.
Солнце уже поднялось высоко, когда Гнедуха потянула соху. От земли поднимался легкий пар и тут же таял. Васька всей грудью навалился на соху, но земля, видимо, стала еще тверже, соха то и дело вырывалась из борозды, приходилось останавливать кобылу и тянуть соху назад.
Работа продвигалась медленно. К полудню Васька не вспахал и трети клина, а устал так, что, поставив вариться обед, прилег и тут же заснул. Пробудился, испуганно вскочил: ему показалось, что он спал слишком долго. Но огонь все так же ярко горел, и чай еще не успел закипеть.
После обеда работать стало еще труднее. Пот струился по лицу, но Васька часто зябко вздрагивал, в руках чувствовал незнакомую слабость.
Гнедуха, помахивая хвостом, сама доходила до конца борозды, поворачивала и тянула соху дальше. Ваське стало казаться, что не он запряг Гнедуху в соху, а она прицепила его к ней и таскает по полю. И будет таскать до тех пор, пока он в изнеможении не свалится на землю. С полным безразличием ко всему на свете брел он за сохой, механически забрасывая ее на поворотах, оттягивая назад, когда сошник начинал скользить по траве. И очень удивился, когда Гнедуха остановилась. Словно очнувшись от забытья, он огляделся: клин был допахан. На дороге, у заимки, клубилась пыль, это, наверно, приближался Савостьян. Опустив соху на землю, Васька тронул вожжи, и Гнедуха покорно пошла к зимовью.
Савостьян сразу заметил, что с Баргутом творится что-то неладное.
— Что с тобой, паря? — с тревогой спросил он.
— Ничего, — помогая распрягать хозяину лошадь, проговорил Васька. — Намаялся, наверно, земля крепче кирпича.
— Сухмень стоит, что же она не будет крепкой. Может, бог даст, помочит. Вроде тучки наплывают. А глаза, паря, у тебя нехорошие, пустые какие-то и блестят. Лицо к тому же зеленое стало. Ты поди вздремни до ужина. Я буду ночевать тут. А завтра пораньше примемся за посев. Хорошо бы под дожди угадать. Вот уж поперли бы овсы-то. Иди вздремни. Говорят, на солнцесяде нельзя спать: комуха[13] может привязаться. Но за один раз ничего не сделается. Ступай.
Васька лег на нары, не раздеваясь, и забылся.
Савостьян нарезал сала, поставил сковородку на огонь. Сало зашипело, на сковородке запрыгали брызги. Ноздри у Савостьяна раздулись. Разрезая луковицу, он восхищенно сказал:
— Какой скусный дух. Скажи на милость, такое же сало, а дома не так пахнет.
Подбросив в огонь сухое полено, он пошел в зимовье и стал трясти Баргута за плечо. Тот мычал, ворочался, но не просыпался.
— Эко разобрало тебя! Да вставай же, вставай.
Васька с усилием поднял голову, мутными глазами уставился на хозяина.
— Ужинать вставай. И здоров же ты спать.
— Ужинать? Я не хочу ужинать.
— Что с тобой приключилось? Я сала сколько нажарил, не выбрасывать же его. Ну-ка, — Савостьян положил на лоб Васьки свою руку. — А и верно, жар у тебя. Ишь, от головы так и пышет. Вот беда-то.
Ночью Баргуту стало хуже. Он рвал на себе рубашку, кричал:
— Двери откройте! Дыму-то напустили. Откройте! Ой-ой, догоняют. А ты в морду хочешь?! — Потом начинал что-то бормотать непонятное, затихал на некоторое время, вдруг ни с того ни с сего вскакивал на колени, обводил избу широко раскрытыми, безумными глазами и хрипло начинал петь песни.
Савостьяну стало жутко. Не дожидаясь утра, он запряг лошадь, положил Ваську на телегу и, привязав его чембуром к телеге, чтобы, упаси бог, не вскочил дорогой и не убежал, поехал домой.
Баба Савостьяна испугалась внезапного и столь позднего возвращения мужа, но быстро пришла в себя. Она встала на пороге, не пуская Савостьяна с Васькой на руках в избу.
— Он, можа, сдурел, а ты его сюда несешь. Да он нас ночью всех позарежет. Он и в своем уме был такой…
Савостьян матерно выругался, но слова бабы все-таки принял во внимание — положил Баргута в зимовье, с сопением стянул с него ичиги, бросил их в угол, вытер ладони о свои штаны.
— Сгорит парень, вон как пылает, — вздохнул он. — А ты что стоишь? — накинулся он на жену. — Давай воды холодной, рушник. Да живей ты ходи, боже ж мой, в кого ты такая неповоротливая? В колодец сбегай, а то припрешь из кадушки…
Когда жена принесла мокрое полотенце, Савостьян положил его Баргуту на лоб.
— Иди к Мельничихе, пусть поглядит парня…
Мельничиха, растрепанная, как всегда, неумытая, с заспанными глазами, прибежала, опередив Савостьяниху.
— А я так крепко спала, так спала. И сон хороший видела, — позабыв поздороваться, затрещала она. — Будто опять молодая да такая красивая, что ребята глаз от меня отвести не могут. А мне жениха выбрать надо. Я туда смотрю, я сюда смотрю…
— Хватит языком чесать. Парень, может, при смерти, а ты болтаешь. Лечи!
— Давай горшок глиняный без трещин, углей свежих, воды чистой, некипяченой, платок белый из козьей шерсти.
— Ты что, рехнулась? Где я тебе возьму козий платок?
— Козьего нету — давай из бараньей шерсти.
Савостьян принес все, что от него требовала Мельничиха. Она расстелила платок на столе, поставила на него горшок с водой, рядом положила угли. Согнувшись над горшком, начала шептать заклинания. Сейчас она сильно смахивала на ведьму. Ее космы повисли, закрыв лицо, костлявые руки быстро и бесшумно двигались над горшком. Наконец выпрямившись, она отбросила волосы, сотворила молитву и стала опускать горячие угли в воду — три раза по три угля.
— Я так и думала…
— Что?