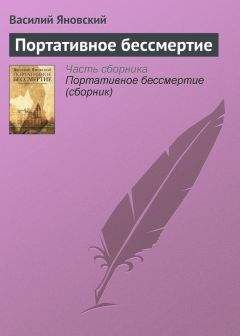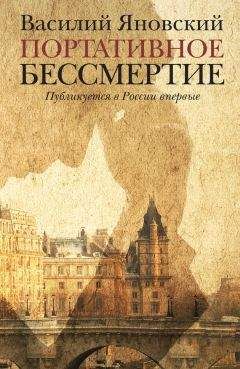Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
Прожив много лет без отца, в одной комнате с матерью, Варшавский упорно искал «героя», отдавая себя чересчур охотно под покровительство то Адамовича, то Фондаминского, то Вильде, то о. Шмемана или Денике и многих других. «Влюбленным» он мог быть одновременно в нескольких и слушался своих наставников не за страх, а за совесть, что последним почти всегда нравилось. Варшавский честно участвовал в «смешной» войне и, вернувшись из плена, был удостоен французской военной медали. Впоследствии, возмужав, он написал и издал две ценные книги…
Кроме удачной женитьбы Алферова припоминается мне еще один буржуазный монпарнасский брак… Адамович привел к нам именно с этой целью дочь Стравинского. И Юрий Мандельштам с ней обвенчался. Новобрачная хворала туберкулезом, совсем как в романах XIX века: через непродолжительное время она скончалась, оставив мужу младенца, девочку.
В 1937 году, кажется, я проезжал на велосипеде по Эльзасу и вблизи Кольмара наткнулся на Юру Мандельштама: там, на горе Шлютц (или что-то фонетически похожее), я подержал на руках сверток с его дочкой – четверть века тому назад. Говорили мы о Грюневальде, которого я тогда «открыл».
Мандельштам был очень предан литературе и писал с большим рвением главным образом серые стихи. Играл он с азартом в шахматы и бридж, но прескверно.
Адамович, критик, можно сказать, мягкий, тактичный («музыкальный»), после десятилетия творческой деятельности Мандельштама раз написал в своей очередной рецензии: «Кстати, право, еще не поздно Мандельштаму начать подписывать свои стихи каким-нибудь псевдонимом…» (цитирую по памяти).
Но Мандельштам не собирался отказываться от своего имени. Родители его – москвичи, милейшие люди – души не чаяли в сыне и дочке (Татьяне Штильман). Из всей семьи только Юра принял православие, пережив соответствующий религиозный опыт; и он же один погиб в немецком лагере. Произошло это, как ни странно, в связи с бриджем… Юра обожал карты, хотя больших способностей в игре не проявлял. Раз вечерком он пробрался из своей квартиры на следующий этаж (в том же доме) на квартиру другого сотрудника газеты «Возрождение». Там вчетвером сели за карты. А Мандельштаму, между прочим, как еврею «по расе», полагалось после восьми часов сидеть дома. Полиция случайно нагрянула и арестовала нарушителя закона. Юрия Владимировича увезли в лагерь Компьень, где он имел еще возможность общаться с матерью Марией и Фондаминским. Затем они все исчезли. Какой набор бессмысленных случайностей!
Мандельштам принадлежал к «группе» Терапиано. Многие начинающие поэты, в том числе и Смоленский, отдавали себя под опеку Терапиано. Но, расправив собственные крылья, они поспешно отделывались от лишнего груза и часто платили Терапиано черной неблагодарностью… Однако Мандельштам до конца остался верным своему патрону.
Софиев мечтал о том, чтобы собрать в одну организацию все кружки зарубежной литературы, а Терапиано стремился обучить их мастерству стихосложения – на свой салтык. Тень мэтра, строителя стихов, Гумилева, Брюсова не давала покоя Терапиано, и это тем более досадно, что, не касаясь его поэтического дара, шармом или магией он никак не обладал.
Был Терапиано внешне тускловат; стихи он любил и, по-видимому, знал. Но к прозе на редкость был глух! Молодым поэтам, если они признавали его авторитет, он старался услужить.
Под крылом Терапиано начинал Смоленский (в лагере Ходасевича)… В характере Смоленского было нечто, объединявшее его с Ивановым и Злобиным, – моральное гнильцо. Но умом или даром Иванова он, конечно, не обладал. Смоленский умел с толком и смаком повествовать о собственной смерти. Эта тема казалась ему и трагической, и значительной. Но в противоположность Иванову или Мережковскому, тоже распространявшихся на этот счет, Смоленский действительно скончался молодым, что, увы, задним числом объясняет многое.
Гимназистом Смоленский влюбился и сочетался законным браком с румяною, полногрудою девицей. Тогда он пел стихи о «ласточке белогрудой»… Постепенно заинтересовался водкою, разошелся с женою. Хорошенький смуглый мальчик во фраке, кокетливо поигрывая бедрами, декламировал с эстрады о «пьяном поэте» и что «каждая ночь бесконечна».
Знакомясь с дамою, он довольно грубо тут же начинал приставать к ней. Восседал у «Доминика» «на жердочке» и, чокаясь, порочно улыбался. А то вдруг затевал ссору с хорошенькой туберкулезно-миниатюрной А.
– Вот это новая Анна Каренина, – глумился он…
А. еще больше бледнела и кусала свои крошечные красные губы.
– Я вам сейчас морду набью! – крикнул я раз при свидетелях. – Выйдем отсюда…
Смоленский был, пожалуй, поэт maudit [84] , но трусливый поэт maudit. Кривясь, он, однако, ничего не ответил. Через несколько дней «Анна Каренина» мне неожиданно сказала:– Я вас считаю принципиальным человеком.
Вообще говоря, наши литературные дамы не были приспособлены к грубым формам жизни. Трудные условия быта, бессонница, плохое питание, табак и, главное, ежеминутное выяснение отношений убивали многие нормальные физиологические поползновения. В сексуальном отношении они становились одновременно и жертвами, и вампирами. Марья Ивановна, жена поэта Ставрова, часто жаловалась: «Говорят, что на Монпарнасе происходят оргии. Ну переспят друг с другом, подумаешь, оргии!»
Все же Ходасевич счел возможным по этому поводу разразиться стишком:
Сквозь журнальные барьеры
И в Париже, как везде,
Дамы делают карьеры,
Выезжая на метле.
Однажды в «Селекте» к соседнему столику приблизились две «обыкновенные» девицы: с ляжками, икрами и прочими, как полагается, нормальными атрибутами. И Адамович, улыбаясь вполне бескорыстно, заметил:
– Боже мой, если бы к нам вдруг попали такие две банальные тетки, какая чудесная метаморфоза произошла бы в наших поэтах.
Перед войной на Монпарнасе начала появляться красивая сухая блондинка, новая невеста, затем жена Смоленского. Говорили, что она религиозно настроена и собирается «спасти» поэта. Может, она его действительно спасла. Но при оккупации он, как и Мережковские, Иванов, Злобин, идеологически расцвел. После победы парижане одно время их всех бойкотировали. Так, в их первом сборнике «Четырнадцать» (или «Тринадцать»?) ни Смоленский, ни Иванов, ни Одоевцева, ни Гиппиус, ни Злобин не участвовали и не могли участвовать. То же в «Эстафете»!
У Convention, чуть ли не напротив редакции «Чисел», жил В.В. Руднев. Я любил эту бездетную, тихую, приветливую чету русских интеллигентов, народников, либералов и прочее.
Однако роль Вадима Викторовича в «Современных записках» казалась мне вредной.
Руднев не скрывал, что стихов он не «понимает», и он не вмешивался в отдел лирики. Но о прозе и он, и другие редакторы, увы, имели определенное мнение…
– Вот Вадим Викторович верующий православный, – с облегчением объяснял Вишняк, – а он вполне согласен со мною, что эту метафизику печатать не следует!
Правда заключалась в том, что Руднев, связанный бытовым образом с русской церковью, считал, однако, что религиозные вопросы не являются предметом рассуждений или споров. Вера – это личное дело человека! Высказываться на эту тему при посторонних даже неприлично…
За стаканом красного вина с неприхотливою закускою мы старались мирно беседовать, не слишком раздражая друг друга; по существу, я уважал в нем честность, стойкость, неподкупность и какую-то особенную, давно исчезнувшую «старорежимную» бескорыстную чистоту. Связывала нас и медицина: он был московским, кажется, земским врачом и понимал лекарскую деятельность вроде некоего служения… Трогали Руднева, вероятно, и чрезмерные лишения, выпавшие на долю всего моего поколения.
Его жена, низенькая, коренастая – типичная русская женская фигура – с ясным «честным» взглядом, мирно прислушивалась к нашей беседе. Благодаря медицине в каждой стране, куда меня забрасывала судьба, я сразу попадал в гущу реальной коренной жизни и видел подоплеку, скрытую от глаз иностранных наблюдателей. Мой опыт иной раз мог показаться интересным.
У Руднева, помню по рукопожатию, был какой-то дефект в пальце: кажется, недоставало части правого мизинца. Детей у них, как полагалось в той среде, не было. Чем это объяснить, не знаю, но факт, что Вишняк, Николаевский, Зензинов, Алданов, Фондаминский и многие, многие другие никогда живого потомства не производили, мне кажется совершенно поразительным и требующим истолкования.
После бегства из Парижа Руднев долго хворал в По; его оперировали, но безуспешно. Умер, как полагается русскому революционеру, в ссылке, непрестанно хлопоча о других (помогал и мне с визою). О его последних днях хорошо рассказывала Извольская, жившая тогда в По.
Похоронив мужа в Пиренеях, вдова Руднева перекочевала в Нью-Йорк, где я ее на первых порах изредка встречал. Она пробовала меня приглашать на свои воскресные завтраки, где бывали ее старинные товарищи вроде Вишняка и Зензинова… Но из этого общения ничего путного не получилось: я как-то мимоходом ругнул очередной роман Алданова, и меня тут же с позором вывели из-за стола. Алданова в своем кругу еще можно критиковать, но не дай Бог при посторонних.