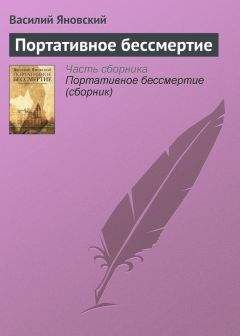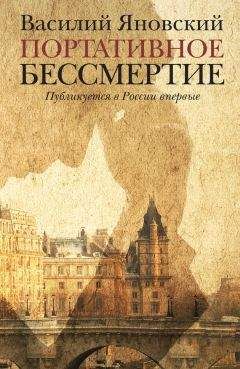Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
Алексею Михайловичу совсем не жилось хуже, чем другим писателям его поколения. Он занимался исключительно своим любимым делом и жил в оплаченной, правда, с опозданием, квартире с кухней и ванной.
Писал он много, очень много, так как редко выходил из дому, и, по слабости зрения, читал все меньше и меньше. Думаю, что после него осталось больше сотни ненапечатанных книжек: пересказов былин, снов, дневников и повестей. Но и издавал Ремизов изрядно: во всяком случае, не меньше Зайцева, Цветаевой или Шмелева. Так что опять-таки его беда являлась частью общей эмигрантской болезни.
Иногда при мне он заканчивал какую-нибудь запись, близоруко переписывая ее в последний раз: тщательно выводя каждую букву отдельно… Это действовало на случайного свидетеля, заражая его энергией мастерства. Полуслепой плотный карлик, припавший выпуклой грудью к доске стола, строчит: дьячок московского приказа, быстро, быстро пишет, выговаривая губами отдельные слоги.
Уходя от него после такого урока, хотелось немедленно сесть за рукопись и вот так, смачно «ощупывая» ртом всякую букву, пропустить текст через сито ремесленного искусства.
Он учил нас обращать внимание не только на слова, но и на слоги или буквы, учитывая соотношение гласных и согласных, шипящих, избегая жутких русских причастий вроде: кажущийся, чертыхающийся, являющийся и т. д., и т. д…
– Я видел ваш почерк, – весело, на ходу занятый более важными гостями, бросил мне Ремизов при первом визите. – Надо выписывать каждую букву отдельно, в этом секрет хорошего письма.
О «Воспоминаниях» Бунина часто отзывались с возмущением… В самом деле, ни к одному из своих современников он не отнесся с участием (одно исключение, кажется, Эртель).
Но то же самое проделывал и Ремизов: всех разносил, ругал и порицал. С той разницей, конечно, что был он типичным неудачником, без нобелевских медалей, и ему должно прощать известную долю завистливой горечи.
Все писатели, разумеется, не знают русского языка и берутся не за свое дело… Особенно доставалось тем, кому хоть немного везло, – Бунину, Сирину. Ремизов хватал очередную книжку «Современных записок», где тогда без перебоя, из номера в номер печатался Сирин, и, читая вслух старательно подчеркнутую фразу, например, «От стихов она требовала ямщик-не-гони-лошадиного…», возмущенно жаловался:
– Вот давно избитое выражение «цыганщина», «романс» он заменяет строкой из пошлой песни и думает, что состряпал нечто новое! А все потому, что берутся не за свое дело.
В его злобном отношении к Бунину чувствовалось нечто классовое, сословное. Даже когда Осоргину, благоговевшему перед Ремизовым, привалило счастье и он сорвал десяток тысяч долларов в Америке, Алексей Михайлович немедленно обиделся…
В этих рейдах против врагов Серафима Павловна его молчаливо поддерживала. Вся она расплылась от волн жира… Без шеи, лицо, пожалуй, сохранило черты былой миловидности… детский, маленький носик.
Несмотря на свою ужасную болезнь, сущность которой заключалась в том, что она все превращала в жиры и откладывала их, или, может быть, по причине болезни, Серафима Павловна беспрерывно что-то жевала. Она ежедневно проводила несколько часов в магазине друзей, помогая у кассы и уничтожая гору изюма, пастилы, орехов.
Популярность у молодежи льстила Ремизову; на этой карте он удачно обошел Бунина. Одно время за его воскресным чаем собиралось человек тридцать новых литераторов. Но продолжалось такое оживление недолго. Уход молодежи оставил еще одну язву в обиженном сердце.
У Ремизова я познакомился с Замятиным после его приезда в Париж. Впечатление осталось: крепкий, целеустремленный ремесленник.
Покинув СССР, Замятин, однако, вел себя с примерной осторожностью, не желая или не умея порвать с потусторонней властью. От него ждали пламенных слов, смелых обличений – обвинительного акта… Чего-то среднего между Золя и Виктором Гюго. А он читал на вечерах свою «Блоху» (из Лескова) и сочинял сценарии для «русских» фильмов во Франции: “Les Bateliers de Volga” [83] . Он рассказывал о московских писателях. О Шолохове сообщил, что во втором томе «Тихого Дона» автор, по-видимому, использовал чужой дневник. Твердо помню, что речь шла только о втором томе и отнюдь не о «Тихом Доне» в целом.
Тогда еще были живы многие писатели, замученные «отцом народов» (увы, только ли «отцом»): Мандельштам, Бабель, Зощенко, Пильняк… Замятин догадывался о ждущей их судьбе, но этой темы он не касался. Знаю, что он дорожил успехом «Блохи» в Москве и все еще получал оттуда деньги. Над его письменным столом в Пасси висел большой советский плакат «Блохи». И своего «Обвиняю» или «Проклинаю» он так и не произнес.
Клеймить его грешно: так вели себя и другие сочинители, попадавшие проездом в Париж: Бабель, Киршон, Пастернак, Федин, В. Иванов, А. Толстой.
В русской классической литературе есть разные образцы высоких подвижников: старец Зосима, Платон Каратаев, Алеша Карамазов… Это святой жизни личности, но понятия о чести они не имеют! Ибо над западной, католической честью (honneur) наши художники старого стиля считали обязательным глумиться, как и над французиками и полячишками. Посмотрите, сколько все-таки примерных бар, не только крестьян в «Войне и мире», и ни одного стоящего француза. Наполеон с маршалами и все другие иностранцы говорят сплошную чушь с ложным пафосом… И это у Толстого. А Достоевский – уже неприличный пасквиль или клюква!
Задолго до большевиков начали на Руси издеваться над такими буржуазными условностями, как честь и достоинство личности. До христианства и гоголевского православия не докатились, а «гонор» профуфукали: не только фактически, но, что хуже, и в идеале – метафизически!
Русский мужик, как и боярин, испокон веков верил, что от поклона голова не отвалится, а покорную голову и меч не сечет и тому подобную мудрость. Танцует Хрущев гопака вокруг стола «отца народов» и думает: «Быть мне помощником письмоводителя!» А другие кандидаты смотрят на него с одобрением и завистью.
После внезапной смерти Замятина Ремизов мне сообщил:
– Вчера я видел во сне Евгения Иваныча… Нос у него совершенно сплюснутый, раздавленный и оттуда кровь капает. Я понял – это душа Замятина… Хрящ перебит, и густая, темная кровь течет. Понимаю: страдает очень, а помочь нельзя, поздно! Он сам искалечил себя «Блохой» и тому подобным успехом.
Передаю по памяти, уверен, что среди бумаг Ремизова сохранилась соответствующая запись. Алексей Михайлович не забывал таких снов и не сжигал своих блокнотов.
Раз я не явился на его очередной весенний вечер – с какой яростью он меня потом ругал:
– А билетом моим, что я вам послал, вы в клозете подтерлись, подтерлись! – со жгучей обидой повторял он, точно речь шла бог весть о каком кощунстве. (Билеты свои Ремизов подкрашивал и подклеивал рождественской мишурою всю зиму.)
После выхода в свет моего романа «Мир», главы которого он читал в гранках, Ремизов похвалил в нем только одно неприличное место.
– Это хорошо, что кот съел, – блаженно улыбаясь сквозь толстые стекла, говорил он. – Я вчера показал это описание Мочульскому, и тот просто ужаснулся, а ведь сам небось шалун… Я тут иногда смотрю на гостей и думаю: как ты, голубчик, все делаешь дома? – опять загадочно ухмыльнулся он.
Разные его позы – гнома, колдуна, болотного попика, недотыкомки – были игрой, обязательной данью того времени. Тут и Блок, Лесков, «Мелкий бес», Мельников-Печерский со всеми Ярилами и Перунами.
– Читайте мою «Посолонь», – советовал он поклонникам. – Там вся тема.
Я возражал, что, вероятно, Флобер со своим методом каторжной работы и «чистки» тоже повлиял на Алексея Михайловича. Ремизов осклабился:
– Это, что и говорить, это верно, но это потом. А начало свое, в «Лесах» Мельникова-Печерского. («Ремизов – почти гений, а учился у скверного писателя», – думал я с удивлением.)
Усвоив огромный опыт нужды, Алексей Михайлович больше всего негодовал, когда на его скромную просьбу отвечали: «Нынче всем худо». Это он считал пределом эгоизма и лицемерия.
Во время бегства из Парижа мне пришлось таскать с собою повсюду щенка, подброшенного нам в Тулузе. И люди кругом, беженцы, негодовали, а иногда и затевали драку под предлогом, что «теперь не до собак, детки гибнут…» Тогда я вспомнил и оценил вполне эту ремизовскую ненависть к обывательскому «нынче всем плохо»!
Как-то летом, во время каникул, когда все в отъезде, Фельзен начал по воскресным вечерам ходить к Ремизову с визитом. Туда же являлась одна его дама сердца. Посидев немного, они уже вместе отправлялись дальше.
А зимой на мой вопрос, почему он перестал бывать у Алексея Михайловича, Фельзен сообщил:
– Ноги моей у этого ханжи не будет больше! Звоню, отворяет дверь сам Алексей Михайлович и сразу говорит: «А знаете, Николай Бернгардович, у меня не дом свиданий».
– Ну! – ахнул я. – Что же вы?
– Я ничего, – снисходительно рассказывал Фельзен, и я понял – он прав, именно так надо себя вести! – Я ничего не ответил, – уверенно продолжал Фельзен. – Прошел, как полагается, в столовую, там уже сидела Н.Н… Поздоровался со всеми, поболтал минут пять и вышел. Больше ноги моей у него в доме не будет.