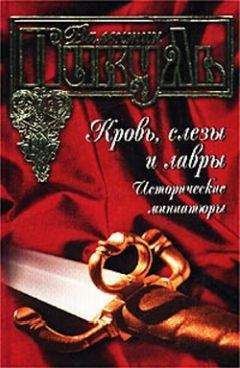Николай Ключарев - Железная роза
Опьяненный густым настоем лесного воздуха, Васька запел. Звуки его голоса тут же замирали, заплутавшись в деревьях, но он не смущался этим. Продолжая петь, парень все шел и шел вперед, куда вела его тропка.
Вдали забрезжил белесоватый свет. Выйдя на прогалину, Рощин увидел людей, добывавших руду. Судя по количеству поставленных над дудками воротов, здесь трудилось, считая баб и девок, человек полтораста.
У ворота крайней дудки работала еще не старая на вид, но изможденная непосильным трудом иль болезнями женщина. Ей помогала девочка-подросток.
— Бог в помощь, — подойдя, поздоровался Рощин. Женщина не отозвалась. Натужно дыша, она налегала всей грудью на спицы ворота, но никак не могла справиться с ним. Видимо, копавший в дудке руду мужик чересчур перегрузил бадью.
Ухватившись за деревянную спицу, Васька плечом отодвинул женщину. Ворот послушно закрутился в его руках. Наполненная доверху деревянная бадья показалась над землей. Ловко перехватив ее за перевясло, Рощин оттащил бадью в сторону, перевернул и снова спустил в дудку.
Девчонка испуганно глядела на него большими синими глазами.
— Что, оробела? Отдохни немножко, а то, я вижу, вы с матерью замаялись.
— И то, — закашлявшись, согласилась женщина.
Бадья за бадьей поднималась наверх. Жена рудокопа не раз пыталась сменить у ворота нежданного помощника, но тот продолжал работать.
Наконец рудокоп, видимо, устал.
— Анна! — глухо послышалось из дудки. — Отдохните, пока я покурю.
Бросив ворот, Васька присел рядом с девчонкой на траву.
— Ну, не думал, что на дудках работать буду, — весело улыбнулся он. — Глядь, пришлось.
— А ты, парень, отколь?
— С завода. Пришел посмотреть, как вы руду копаете.
— Барин прислал?! — Женщина испуганно приподнялась.
— Какой тебе барин! Сам пришел. Полюбопытствовать. Не видел допреж.
— А чего смотреть-то? Ковыряемся, словно кроты.
Спохватившись, она достала из берестяного кошеля тряпицу с завернутым в нее куском хлеба.
— На, поешь, а то устал, поди, у ворота-то!
— Нет, спасибо, не хочу. Ты лучше дочке дай.
Девочка исподлобья глянула на него.
— Дикая она у тебя. Как ее звать-то?
— Наташей. Не привыкла еще к здешнему народу, вот и боится.
— Вы что, дальние?
— Верст сорок, а может, и боле. Теперь тут неподалеку живем, на пустоши.
— Кличут как?
— Котровские. А тебе на что?
— Так просто.
Рощин помолчал. Синеглазая девчонка, сидя рядом с матерью, временами исподлобья взглядывала на него. Улучив момент, Василий смешливо подмигнул ей. Та, закрыв лицо рукавом, спряталась за спину матери.
— Чего ты, дуреха, — ласково обратилась к дочери Анна. И, обернувшись к Василию, молвила: — Глупенькая она еще у меня. Иные в ее пору невеститься уже начинают, а она все дите несмышленое.
— Не торопись, тетка Анна, вырастет еще.
— Вестимо, вырастет. А там, гля-ка, и из дому уйдет.
— На то они и девки.
— Так, так… Пока растишь — ночей не спишь, замуж выдашь — хлопот тебе да забот вдвое. С парнями лучше. Возрастет — помощник в дому.
— А есть мальчишки-то?
— Нет, не благословил господь. Одна вот Наташенька, счастьице мое.
— Как в деревне-то жили?
— Плохо, парень. Мы хоть и не барские, к монастырю были приписанные — Саров-пустынь слыхал? — а все одно невмоготу было. Как на барщине. Монахи знают одно: богу молиться да по молодкам шастать, а мы — работай на них, пои их, корми. На монастырском поле день поработаешь, а на свою полоску часу нет. Сумеешь урвать — гоже, нет — не жалься. До рождества свово хлебушка хватит — и слава те господи.
— Да, хорошего немного.
— Что и говорить. Ну и здесь-то завидного мало. Такая же маята. Вот, может, на завод переведут, там полегчает.
— Полегчает, как же!
— Ай и там тяжко?
— Да нелегко. — Василий сорвал былинку, пощекотал ею девочку. Та испуганно сжалась. — Ну, я пойду, пожалуй.
— Спасибо тебе, парень, за подмогу. Теперь до вечера дотянем.
Прежде чем покинуть поляну, Васька заглянул на одну дудку, другую, третью. Везде шла такая же, как и на первой, работа. Медленно поднималась наверх бадья, груженная рудой, снова спускалась — и так раз за разом с раннего утра до темного вечера.
«Тяжелая работа, — подумал Рощин. — Хуже, чем на заводе».
Обратно шел той же тропинкой. Высокие корабельные сосны по-прежнему неумолчно шумели, словно жаловались на кого-то. Вдали, пугая своих пернатых собратьев, гулко ухал сыч.
Выйдя на пригорок, Васька вдруг остановился. Шагах в десяти на тропинке стояла, зажав во рту какую-то добычу, огненного цвета лисица. Ее желтовато-коричневые глазки настороженно, но и без испуга смотрели на человека. Пушистый хвост, словно сноп ржаной соломы, стлался по земле. Постояв, она юркнула в чащу.
«Вот и люди так. Урвут кусок и — в нору!»
В голову снова полезли мысли о неправильном устройстве людской жизни.
«Была бы моя воля — все по-своему повернул бы. Пусть каждый живет, как хочет.»
Так в разговоре с самим собой незаметно дошел до поселка. У самой околицы встретил попа Сороку. Тот быстро шел, почти бежал, бормоча что-то себе в бороду.
«Пьяный, что ли, батька? Иль беда какая стряслась?»
Занявшись постройкой заводов, Баташевы, казалось, забыли о Сороке. А он, выбитый из привычной жизненной колеи, не знал, куда себя девать. Нередко приходил на берега Выксуни, хоронясь от людей, смотрел, как согнанные с разных сторон крестьяне валят лес, возводят плотину. Его большие мужицкие руки вдруг запросили дела. Глядя на землекопов, не раз порывался он сбросить с плеч латаный парусинковый подрясник, закатать рукава и, взявшись за кирку иль лопату, вместе с ними ворочать глыбы земли. Однако Сорока понимал, что поступить так нельзя: чего доброго, землекопом и останешься. А у попа из головы не выходила мысль о том, что братья Баташевы должны взять его в долю.
Сидя в сторонке на поваленной ели, Сорока представлял себе, как станет соучастником заводского дела. Мечты о богатстве бродили в нем, как ядреные вешние соки в молодом дереве. Но шли дни, недели, росла запруда, расчищалось место для будущего завода, а Сороку никто к делу не звал. И попом начинало овладевать сомнение.
— Обманут, аспиды, — глухо бормотал он, уходя прочь от ставшего шумным места. — Ну, тогда… тогда и я… попомнят, все прахом пущу.
Сыновья не раз говорили Сороке, что лучше бросить все и уехать, звали на Ветлугу, где, по слухам, привольно, но он упрямо отмахивался от них.
— Доколь не исполнят своего посула, никуда не тронусь.
— А не исполнят?
Поп пристально поглядел на Тимоху.
— «Мне отмщение, и аз воздам», — сказал господь, — ответил Сорока сыну словами евангелия. — Будет по слову господню.
И опять брел на Выксунь.
В один из дней, когда плотина была уже готова, Сорока прошел на возведенную людьми огромную насыпь, присел на брошенную у края плотины глыбу дикого камня и задумался. Внизу шумно плескалась поднятая ветром волна. По небу неслись, догоняя друг друга, рваные клочья облаков.
— Эй, кто там есть? Что за человек?
Сорока оглянулся. На плотине стоял старший Баташев. Из-за его спины выглядывала фигура недавно назначенного плотинного сторожа Луки.
— Что за человек? — переспросил еще раз Баташев, подходя поближе. — А, это ты, батя? Любуешься? Здорово разлилось!
Сорока что-то невнятно пробормотал в ответ.
— Молодчина, поп, ладное место указал для запруды. Ишь, сколь воды скопилось, что твое море-окиян.
— Рыбешки бы сюда напустить…
Баташев повернулся к Луке.
— Рыбы? А ты, старик, пожалуй, дело молвил. Слышь, поп, что плотинный говорит? Будет ли только жить-то?
— Вода проточная, что ей не жить? — неожиданно для себя ответил Сорока.
— А коли будет, так и займись этим. Нечего без дела околачиваться. Снасти-то у тебя, помню, есть. Налови в Оке, а мы ее сюда переправим.
— Щуку только пускать не надо, — сказал Лука.
— Это почему?
— Хищница она.
— Хищница? — Баташев рассмеялся. — До седых волос дожил, а ума ни на грош. Уж коли хочешь знать, щука — наинужнейшая из рыб. Не будь ее, тесно в воде станет. Моя б воля, я бы ее над всеми рыбами царицей поставил. У нее человеку поучиться надо, как жить.
И, повернувшись уходить, еще раз сказал:
— Так ты, батька, не забудь, налови рыбы-то. Да смотри поторапливайся. Скоро пильню на Оке поставим, доглядывать за ней станешь. Рыбы наловишь — извести. Подводу дам.
Несколько минут Сорока сидел молча. Легкий скрип козловых сапог удалявшегося Баташева доносился все тише, потом совсем смолк. Собрался уходить и плотинный. И тут попа словно прорвало.
— Прохиндеи анафемские! Рыбы ему налови! Чего выдумал! Чтобы, аки на ослице валаамской, ездить на мне? Лови сам, коли рыба нужна.