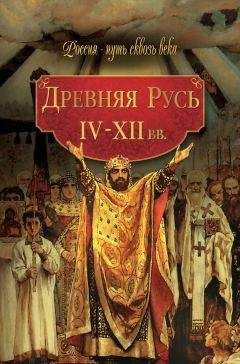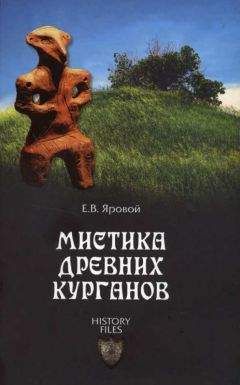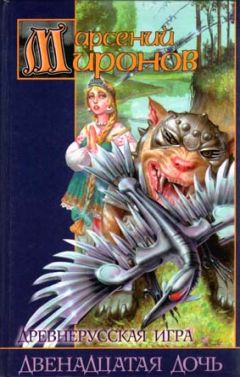Ольга Лепешинская - Путь в революцию. Воспоминания старой большевички.
Домой я приехала в поздний час, когда все уже спали. На столе меня ожидал ужин; но есть не хотелось, и не столько от усталости, сколько от пережитых впечатлений.
Я было уже собралась спать, когда в комнату ко мне вошла мать. В просторном ночном капоте и чепце она казалась старше своих лет, но как-то добродушней и милей. Она и в самом деле была на этот раз по-особенному ласкова.
— А я и не знала, Олюшка, что ты вернулась, — с улыбкой говорила она, обнимая и целуя меня. — Ну, рассказывай — каково съездила?
Волнуясь и негодуя рассказала я ей все, что увидела и узнала. Мать слушала меня молча, плотно сжав губы и чем дальше, тем все более мрачнея. О чем думала она в это время? Вероятней всего, о том, что ее попытка «приставить» меня «к делу» потерпела крах и вызвала совершенно противоположный результат.
— Ну, хорошо, — произнесла она наконец, когда я выговорилась. — Я полагаю, ты не вмешивалась в мои распоряжения, данные ранее, и не поставила себя в смешное положение? — Эти слова она сказала подчеркнуто строго. — Боже, как ты еще наивна и глупа! — Последовал продолжительный вздох. — Рабочие — то, рабочие — се… Рабочие всегда недовольны. Запомни это. Сколько для них ни делай — они всегда неблагодарны. Да вот сейчас: вместо того чтобы сказать мне спасибо за жилье, которое я для них построила, они устроили пожар! Ну да ничего, я с них за эти убытки взыщу, как с миленьких! — Глаза ее блеснули жестко и мстительно. — Ступай-ка спать!
Она вышла, а я долго не могла уснуть. Вера моя в правдивость матери рушилась. И навсегда.
ПЕРВЫЙ БУНТ И
ПЕРВАЯ ПОБЕДА
До сих пор мой протест против социальной несправедливости, которую я замечала вокруг себя, носил только платонический характер. Я возмущалась видимым, иногда высказывала свое возмущение вслух, но далее этого — не шло.
Возвратившись из Губахи, где впервые так близко столкнулась с обнаженной действительностью, я задумалась — как же мне жить дальше. В те дни я буквально металась, пытаясь найти такое решение, которое бы наполнило мою жизнь смыслом и определило ее цель. А решение, кроме ранее принятого — поступить на курсы фельдшериц, — все не приходило.
В один из таких дней, когда я чувствовала себя разбитой испытанным в Губахе нравственным потрясением и полным разочарованием в матери, в ее «честном труде», мне сообщили, что предстоит традиционный бал в Благородном собрании, куда обычно приглашали гимназисток из старших классов, уже начинавших «выезжать в свет».
Мать осведомилась у меня:
— Какое тебе, Олюшка, платье заказать для бала?
Я пожала плечами и угрюмо сказала, что никакого нового платья шить себе не собираюсь. Для матери и мой тон, и моя хмурость были непонятны: ведь она знала меня как завзятую плясунью и любительницу повеселиться. Ну, а с другой стороны — каждый такой бал служил своего рода смотринами. Маменьки и их питомицы охотились за женихами. Женихи приценивались — именно приценивались, поскольку их в первую очередь интересовал размер приданого, — к невестам. С точки зрения матери, терять возможность сделать хорошую партию было глупо. Не скрывая этого, она спросила:
— Ты что же — в старых девах собираешься ходить?
— Нет, — повторила я, — платья себе я шить не буду.
Поняв, что настаивать бесполезно, мать отступилась, но решила настоять на своем другим путем. Она устроила так, что за неделю до бала в дом к нам пришла веселая офицерская компания, которая принялась всячески уговаривать меня поехать в назначенный день в Благородное собрание.
Я повторила свой отказ. Они настаивали. Я снова повторила… И вдруг во мне проснулось былое озорство. Мне захотелось проучить и мать, и подосланных ею делегатов с погонами, а заодно… Да, это так и было: возмущение пермским «светом», его паразитизмом рвалось наружу. Я должна была его хоть как-то проявить!
— Хорошо, — сказала я с самым невинным видом, — я уступаю вам. Но смотрите — не пожалейте потом!
Однако никто не обратил внимания на это мое предостережение. Мать торжествовала, а я про себя посмеивалась.
Бал в Благородном собрании был в разгаре. В зале, сверкающем огнями, на блестящем, натертом воском паркете нарядные дамы и затянутые в мундиры офицеры кружились в вальсе. И вдруг в этом избранном обществе появилась необычная фигура.
Фигура эта была наряжена в простое ситцевое платье, какие надевают деревенские девушки, собираясь идти на гулянье. Поверх платья был накинут овчинный полушубок, а на ногах виднелись валенки.
Распорядитель подлетел к фигуре, чтобы немедля выставить ее из зала. Лицо его выглядело рассерженным. Но, открыв уже рот, он поперхнулся. Фигура-то оказалась дочерью Елизаветы Федоровны Протопоповой; а если учесть, что Елизавета Федоровна владеет шахтами в Губахе, и в Кизеле, и в Челябинске, веревочной фабрикой, да спичечным заводом в Казани, да большим имением в Кашурине, под Москвой, да пароходами на Каме, то-о…
Танцующие пары остановились в недоумении. Из уст в уста побежал смятенный шепоток:
— Да ведь это Ольга!.. Что за дикость! Ольга Протопопова!.. Боже, какой позор!
Меня обступили. Я же, ничуть не смущаясь проявленным ко мне вниманием, во весь голос задорно запела частушку:
Я танцую, веселюсь,
Тятьки с мамкой не боюсь.
Я танцую во весь мах —
Незаметно, что в пимах!
Пение мое сопровождалось притопыванием.
Скандал — полнейший!
О нем долго говорили в «приличных» семействах; а уж что было после этого дома — и говорить нечего. Негодованию матери не было пределов.
— Ты опозорила наш дом! — воскликнула она, сверкая глазами. — И что это все значит, хотела бы я слышать?..
Признаться, я и сама понимала, что выходка моя идет больше от сердца, чем от ума. Кому и что я ею доказала?! Но объяснять матери свое душевное состояние не пыталась. Это было бесполезно. Я только сказала ей, что ничего общего с той средой, в которой я живу и в которую еще глубже стараются меня втянуть, — не имею; что жить так, как жила до сих пор, — не хочу: стыдно, и что после окончания гимназии твердо намереваюсь уехать в Петербург и поступить там на Рождественские курсы (так обычно называли курсы лекарских помощниц, помещавшиеся в Петербурге на улице Рождественке).
Однако мать и слышать не хотела о моих планах. Она отговаривала меня, запугивала всякими небылицами, но я твердо стояла на своем.
— Ну хорошо, — сказала она наконец, — если уж ты никак не можешь расстаться с этим глупым намерением сделаться медиком, — поезжай в Париж, к сестре Лизе. Станешь там учиться на медицинском факультете, сделаешься врачом, будешь потом иметь богатую практику.
Но ехать в Париж я отказалась. Моя старшая сестра Лиза расписывала в своих письмах прелести парижской жизни и удовольствия, которые можно получить в столице мод. Но я уже знала, какой ценой покупается все это. Нет, Париж меня не привлекал.
Напрасно мать переходила от уговоров к брани — переубедить меня было невозможно. Разузнав подробней о Рождественских курсах, я послала туда заявление, но ответ пришел из Петербурга огорчительный: принимали туда лишь тех, кто имел золотую медаль.
Что было делать? Отказаться ли от своего намерения и остаться в Перми либо ехать в Париж — или добиваться своего другими путями?
Не помню уж, от кого я тогда узнала, что в некоторых случаях к золотой медали, приравнивается аттестат зрелости, который в те времена выдавался только лицам, окончившим мужскую гимназию. Тогда я, ни минуты не колеблясь, решила получить такой аттестат и обратилась к дирекции мужской гимназии с просьбой допустить меня к экзаменам.
Дирекция гимназии оказалась в немалом затруднении. Не было еще такого прецедента, чтобы на аттестат зрелости за мужскую гимназию держала экзамен девушка. Однако и отказать мне оказалось не так просто: я была настойчива. Сделали запрос в учебный округ. Оттуда пришло разрешение, и я принялась усидчиво изучать латинский и греческий языки и математику в объеме курса мужской гимназии.
На подготовку у меня ушел целый год. Это был год настойчивого, упорного труда. Время от времени мать пыталась заронить во мне зерно сомнения.
— К чему тебе так обременять себя? — говорила она. — Ехала бы в Париж, там от тебя никакой медали не потребуют.
Но я уже твердо верила в себя и продолжала готовиться к экзаменам. Это была моя первая борьба за право жить самостоятельно, жить так, как я считала нужным, — я не должна была проиграть ее!
И вот он пришел, наконец, тот день, когда я, успешно сдав необходимые испытания, получила аттестат зрелости, а значит, и право на поступление в Рождественку. Это было осенью 1891 года.
Спустя короткое время, ясным солнечным днем, я покидала Пермь. Я ехала учиться, чтобы затем вернуться в родные края и помогать здесь тем, кто нуждается в моих знаниях фельдшерицы, — обездоленным, бедным людям. Я хотела лишь одного — быть полезной.