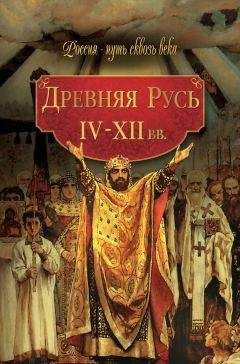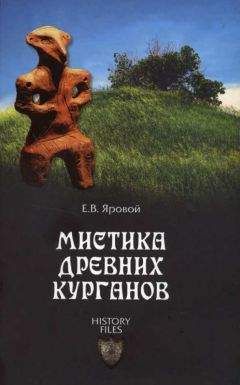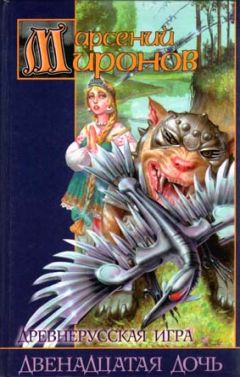Ольга Лепешинская - Путь в революцию. Воспоминания старой большевички.
ВСЁ СВОЕЙ
ЧЕРЕДОЙ…
В детстве я росла настоящим сорванцом. Самым обычным для меня делом было лазать по деревьям, в клочья раздирая платья, играть с мальчишками в бабки, в лунки, бешено мчаться по лужайке во время игры в лапту. Ну, а если дело доходило до споров, то не было ничего проще, как решить их дракой или взаимным тасканьем за волосы.
Мать, разумеется, была страшно недовольна таким моим времяпрепровождением. И наказывали меня, и лишали удовольствий, и выговаривали. Не помогало…
Действовала на меня благотворно только Катя. Только она умела просто и интересно ответить на мои вопросы; и только с ее решительностью и неумолимостью я примирялась, когда дело доходило до оценки тех или иных моих поступков.
Как-то в гимназии со мной произошел такой эпизод.
Всем классом мы рисовали с натуры. Предметом, который нужно было изобразить, служил огурец. Не обладая большими способностями к художеству, я тем не менее старательно трудилась над рисунком. Но, увы, труды мои не были оценены. Взглянув на мою работу, учитель перечеркнул ее и приказал:
— Начните снова!
Вероятно, он был прав. Но ведь я так старалась… Меня охватил необузданный гнев. Вскочив с места, я закричала на весь класс:
— А вы… вы сами ничего не понимаете!
— Вот как!
Учитель направился к кафедре.
— За это вы будете наказаны!
В этот день я не ушла из гимназии вместе со всеми. Меня оставили после уроков без обеда. Ах, как горько чувствовать себя в такие минуты совсем одинокой и всеми покинутой!.. И как же я была благодарна Кате, которая пришла ко мне, в опустевший класс!
Для нее не составило особого труда доказать мне всю вздорность и мелочность моего поступка. Я искренне повинилась в своей грубости и дала ей слово на следующий же день извиниться перед учителем. Потом она уселась рядом, и мы повели задушевный разговор. Совершенно неожиданно огорчение мое обернулось радостью. Катя не оставляла меня до той минуты, пока не раздался голос служителя, возвестившего:
— Протопоповой — уходить домой!
А уходить уже не хотелось. Катя начала рассказывать мне о декабристах. И совсем, совсем не так, как рассказывали нам о них в классе, на уроках истории…
Шли годы. Я становилась старше. Изменялся и ширился круг моих интересов. Все шло своим чередом, и все было обычным для того времени. Меня учили и воспитывали, стараясь создать в будущем даму буржуазного света, для которой самым главным являлась бы семья и чей досуг делился бы между гостиной, детской и кухней. Я ходила в гимназию, готовила уроки, а в свободное время со всем увлечением юности предавалась доступным мне развлечениям.
Развлечений этих было немало. Маскарады сменялись любительскими спектаклями, спектакли — балами. На смену танцам в Благородном собрании приходили танцы на льду, при свете разноцветных огней. А потом — масленичные катания на тройках, концерты. У меня обнаружился неплохой голос, и я не без успеха выступала на гимназических концертах и пела в церковном хоре.
Все меньше оставалось во мне озорства и ребяческой непокорности, хотя нет-нет и прорывались они то в какой-нибудь проделке на катке, то в непочтении к классной даме.
Да, конечно, от нас требовали хороших манер и внешнего лоска; но уже тогда я начинала чувствовать противоречие между внешней стороной буржуазной морали и ее внутренним содержанием.
О. Б. Лепешинская (Протопопова) в гимназические годы (12–13 лет).Припоминаю историю с учителем математики Хохлачевым. Этот местных масштабов донжуан, преподававший в старших классах гимназии, совратил одну из моих одноклассниц, Пермякову. Конец этой истории был трагичным — Пермякова покончила с собой. Однако никаких неприятностей для Хохлачева это не вызвало. Его легкие победы продолжались.
На меня случай с Пермяковой произвел тягостное впечатление. Он заставлял задуматься над теми глубокими, коренными проблемами, от которых нас так настойчиво старались отвлечь в гимназии.
А жизнь без всяких прикрас, обнаженная, — была рядом со мной; и нужно было только присмотреться к ней, чтобы обнаружить то, о чем ни в семье Протопоповых, ни в женской гимназии не говорилось.
ДРУГОЙ МИР
Я была уже в восьмом классе, и жизнь моя текла совершенно благополучно. По крайней мере, с внешней стороны. Никто из близких не мог и предположить, что семена сомнений, запавшие в мою душу, пустили корни и разрастаются все пуще, вытесняя оттуда ложь и лицемерие, царящие в так называемом «обществе». А между тем это так и было.
Аннушка уже не работала у нас, но я не забывала о ней и заходила к ней изредка, на рабочую окраину, где она жила. Бывая там, я видела, в какой нищете и грязи живут обитатели маленьких тесных хибар. Прислушиваясь к разговорам нашей прислуги — дворников, кучера, поваров, я улавливала в них подавляемую обиду на бар, недоброжелательство к богатым, и в том числе — к моей матери. Иногда я заглядывала в подвал, где с утра и до вечера, в пару и духоте, стояла над корытом наша прачка Матрена и все стирала… Я заговариваю с нею; и она со вздохами, со слезами рассказывает мне о своей жизни. Картины жестокой, беспросветной нужды открываются передо мной. Я бегу к себе. Стою у окна, смотрю на Каму и думаю, думаю… Смутно у меня на душе. Тягостные, недоуменные вопросы роятся внутри: «Почему такая несправедливость? Почему у нас, у таких же, как мы, — роскошь, всевозможные удовольствия, излишества, а тут же рядом, у Матрены, — нет медного гроша, чтобы накормить ребятишек? Почему?..»
Но ответа на эти «почему» я сама найти не могла. Только росло во мне стремление во что бы то ни стало постигнуть правду жизни и жить по ней, по этой правде. Сознание того, что живу я не так, как нужно, становилось во мне все сильней. И это ощущение особенно обострилось после поездки моей в Губаху.
В годы, о которых я сейчас рассказываю, Пермь уже была важным экономическим центром Приуралья. Населения в ней было тогда что-то около пятидесяти тысяч, Перспективы промышленного развития открывались самые широкие; да и период это был такой, когда российский капитализм, что называется, вырвался на волю и быстро рос. Все оживленнее становилось движение на Каме. Была уже открыта Горнозаводская железная дорога, выходившая к Каме в Перми. Одна за другой возникали коммерческие фирмы, торговые дома, компании. Оборотистые дельцы спешили строить доходные дома, обзаводиться пароходами, приобретать угольные или золотые копи — одним словом, ковать железо, пока оно горячо.
Моя мать владела и пароходами, и шахтами, и доходными домами. Одним из наиболее крупных ее предприятий были каменноугольные копи в Губахе. Директором их был мой старший брат Борис.
Как-то Борис, кстати сказать давно злоупотреблявший алкоголем, заболел перед самой выдачей рабочим копей жалованья. Мать обратилась ко мне:
— Съезди-ка, Ольга, в Губаху. Борису неможется, а без хозяйского глаза там нельзя.
Предложение матери — послужить в Губахе «хозяйским глазом» — было мне неприятно; и я уже подумывала о том, чтобы под любым предлогом отказаться от поездки, но другое чувство оказалось сильнее.
С некоторых пор до меня стали доходить смутные слухи о волнениях среди рабочих, о том, что они портят и разбивают машины и предъявляют хозяевам какие-то свои требования. Однако ничего определенного я не знала, и желание увидеть собственными глазами жизнь рабочих было велико. Я согласилась отправиться в Губаху.
Перед отъездом мать дала мне еще одно поручение: проверить, как идет постройка жилья дли рабочих. Тогда я, испытывая прилив доверия к матери, спросила у нее, чем вызваны волнения среди рабочих. Она холодно сказала:
— Распустились они, вот что. Напьются и начинают хулиганить. А так — с чего им буянить? И одеты, и накормлены, и квартиры вон для них строим. Чего же еще?
Но то, что я увидела в Губахе, оказалось в полном противоречии с тем, что говорила она.
Раздача денег проводилась в полутемном, грязном помещении. Сюда выходило окошко кассы. Стоя в очереди, угрюмые, раздраженные чем-то, рабочие молча смотрели на меня.
Началась выдача жалованья. «Жалованье»… Теперь это слово вышло из употребления. Мы говорим — «заработная плата». И это очень правильно: мы получаем то, что заработали своим трудом, получаем в соответствии с ним. А тогда — «жаловали», то есть давали рабочему человеку не столько, сколько ему следовало получить за свой труд, а столько, сколько «пожалует» от своих милостей хозяин. Глубокий смысл таился в этом слове — «жалованье»…
Так вот, — подходили рабочие друг за дружкой к окошку, расписывались в ведомости, а чаще просто ставили крест, за неграмотностью, и отходили. По-разному отходили. Одни — молча, только сверкнув гневными глазами; другие — глухо бормоча проклятия; третьи — ругаясь вслух.