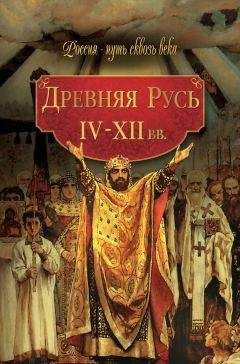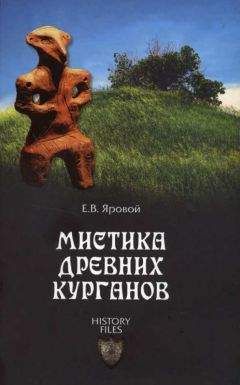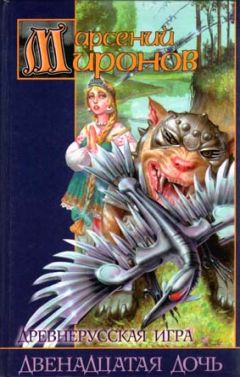Ольга Лепешинская - Путь в революцию. Воспоминания старой большевички.
Помнится, что на душе у меня было тогда и радостно, и грустно. Юность кончилась. Она оставалась тут, в Перми; а там, впереди, была борьба за новую жизнь, в которой если не все, то многое зависело от меня самой. И было такое чувство, что я покидаю родительский кров навсегда. Это чувство не обмануло меня.
ПЕТЕРБУРГ,
РОЖДЕСТВЕНКА
Вот и Петербург. Вот и Рождественка. Много, много вставало потом передо мной на жизненном пути препятствий, которые нужно было преодолеть, чтобы двигаться дальше. Но тогда, в здании курсов, мне казалось, что я стою перед последней преградой — приемной комиссией. Перешагнуть через нее — и все остальное пойдет гладко и хорошо. Ну что ж, юности свойственны и чрезмерная пылкость, и вера в быструю и легкую достижимость заветных целей.
Я вошла в светлое просторное помещение и оказалась перед длинным покрытым зеленым сукном столом, за которым сидели члены приемной комиссии. Директор курсов взял папку с моими документами, еще раз перебрал их и равнодушным тоном сказал:
— К сожалению, мадемуазель, принять вас мы не сможем. У вас нет золотой медали. А наши условия вы знаете… Да-с!
Спокойно, но настойчиво я начала доказывать, что аттестат зрелости не уступает по своему значению золотой медали, и раз я имею такой аттестат, то меня должны принять.
— Допустим, что так, — в прежнем тоне заявил директор, — но вы, ко всему прочему, опоздали; и у нас уже нет мест. — Его, видимо, раздражала моя настойчивость, и ему хотелось лишь поскорей закончить этот разговор.
Но я не отступала. Я утверждала, что дело вовсе не в отсутствии мест, а в том, что аттестат зрелости у девушки — явление непривычное и считаться с ним не всем хочется… Рядом с директором сидел пожилой профессор, внимательно за мной наблюдавший. В то время как я приводила свои доводы, он склонился к директору и негромко поинтересовался:
— Мы уже принимали женщин с аттестатом зрелости?
Директор отрицательно покачал головой:
— Это первый случай.
Внезапно он спросил, чем занимаются мои родители. Мне совсем не хотелось сообщать о том, что я из семьи «тех самых Протопоповых», но иного выхода не было. Неохотно я ответила на его вопрос — и, будто по мановению волшебного жезла, все переменилось. Директор заулыбался, тон его стал много любезней. Многозначительно переглянувшись с членами комиссии, он заключил:
— Ну что ж, я полагаю, господа, мы не будем возражать против поступления мадемуазель на наши курсы.
Итак, я принята. Но странно — это не доставило мне ожидаемой радости. Ведь исключение-то сделали не для меня, никому не известной девушки, а для дочери уральской капиталистки Елизаветы Протопоповой. Мое прошлое преследовало меня.
Я отправилась в общежитие курсов. Сентябрьский день был не по-петербургски ласковым и теплым. Со стороны моря дул свежий упругий ветерок. Шагалось легко и быстро. Мысли о новой, неизведанной еще жизни переполняли меня. Я — студентка. Волновало предстоящее знакомство с товарками: кто они, как-то я с ними сживусь.
Опасения мои оказались напрасными. В комнате, куда меня поселили, стояло двадцать кроватей. Я быстро перезнакомилась с ее обитательницами.
— Вероятно, вам наша комната кажется настоящей казармой после обстановки, в которой вы жили раньше? — спросила меня одна из них, которую я посвятила в свою жизнь.
Но как она ошибалась! Все меня здесь привлекало, все тянуло к себе — своей простотой, атмосферой труда и чистых, бескорыстных интересов.
— Нет, — сказала я ей спокойно, — никогда не пожалею о том, что сделала.
Начались дни учения. Занятия на курсах увлекли меня. Лекции у нас читали известные в науке профессора, лучшие преподаватели и лекторы того времени. Среди них был Петр Францевич Лесгафт — знаменитый русский педагог и психолог, врач и анатом, общественный деятель, подвергавшийся преследованиям царского правительства. Запомнился Иосиф Васильевич Бертенсон — известный врач-гигиенист, деятельный пропагандист медицинского образования женщин в России. Он-то и был основателем Рождественских курсов и двадцать два года подряд, почти до самой своей смерти, был их руководителем. С удовольствием и признательностью слушали мы лекции окулиста Вениаминова, физиолога Тарханова, терапевта Вальтера.
Весь первый год учения я жила в общежитии курсов. Там я близко сошлась и подружилась с Инной Смидович — родной сестрой известного впоследствии революционера-большевика П. Г. Смидовича и двоюродной сестрой крупного русского писателя В. В. Вересаева. Вечерами, когда уже все девушки спали, мы с нею подолгу и о многом разговаривали. Инна убеждала меня начать ходить в землячество, где обычно собирается молодежь, где можно интересно и с пользой провести время, где можно встретить революционеров.
Я последовала ее совету и стала по вечерам регулярно ходить в землячество. Там и в самом деле было интересно. Занимались общеобразовательные кружки, читались лекции и доклады, обсуждались злободневные вопросы общественной жизни, причем не обходилось без довольно резкой порой критики существующих порядков.
Однако же, несмотря на обилие споров и горячих разговоров, большую часть времени мы отдавали танцам, веселью, пели хором песни — словом, от души и дружно развлекались. Нередко я ловила себя на мысли, что в общем-то быть революционером не только не опасно, а даже приятно…
В этот период я совершенно искренне была убеждена в том, что такого рода занятиями и разговорами можно усовершенствовать жизнь и пересоздать ее на основе справедливости. Но общение с прогрессивно настроенным студенчеством не проходило бесследно. Я начала знакомиться с революционной литературой, и в первую очередь с «Историческими письмами» народника Петра Лаврова. Затем прочитала «Первобытную культуру» Тэйлора, «Происхождение видов» Дарвина и ряд других книг.
Может показаться странным, что я не была знакома не только с нелегальной, но и вообще с прогрессивной литературой. В самом деле, ведь еще в начале шестидесятых годов в Перми был раскрыт центр революционной пропаганды, руководимый преподавателями семинарии Воскресенским, Моригеровским и молодым чиновником Иконниковым. В начале восьмидесятых годов в Перми существовал кружок революционных народников. В Перми находилось в ссылке немало революционеров, в том числе, скажем, В. Г. Короленко (в 1880–1881 годах). Все это не должно было пройти мимо тех, кто активно интересовался революционными идеями.
Но если учесть среду, в которой я выросла и воспитывалась, то станет понятным, что назревавший в моей душе протест против буржуазной морали, против самодержавного террора был весьма смутным и неопределенным, не имевшим правильного направления. О литературе же подобной той, которую мне довелось впервые взять в руки в Петербурге, я в Перми не слыхивала.
Но и в Петербурге то, с чем мне пришлось познакомиться, я принимала вначале слишком буквально, а подчас и наивно. После прочтения «Происхождения видов» Дарвина я пришла к правильному заключению, что бог, в которого я до этого верила, — не существует и что вся эта церковная обрядность, которую в той или иной мере я соблюдала, — не более чем варварство и глупость.
Однако мне хотелось получить прямое, непосредственное подтверждение того, что Дарвин действительно прав и что бога нет. Как раз в это время близилась пасха, и все курсистки были обязаны перед праздником причащаться.
Решив проверить, существует ли бог, я, получив причастие, тут же в церкви незаметно выплюнула его и растерла на полу ногой. С замиранием сердца я ждала, что будет. «Если сейчас ничего со мной не случится, значит… значит бога нет!» — думала я. Со мной ничего не произошло — религиозное мое отступничество осталось безнаказанным; и я гордо пошла домой, убедившись, что бога нет.
Но как хохотали надо мной мои подруги и знакомые студенты, когда я поведала им о том, как чисто экспериментальным методом доказала отсутствие божественного начала в мире. Правда, смеялась вместе с ними и я. И это было очень хорошо. По крайней мере, я раз и навсегда покончила с религией и стала, как тогда называли, «свободомыслящей атеисткой».
«ЛЕГАЛЫ» ИЛИ
«НЕЛЕГАЛЫ»?
Землячества, как известно, были студенческими объединениями, в каждое из которых входила учащаяся молодежь, приехавшая из какой-нибудь одной губернии. Я вступила сразу в два землячества — Пермское и Вологодское, хотя никакого отношения к вологжанам не имела. Сделала же это я потому, что в Вологодском землячестве работала самая моя близкая подруга Лидия Саблина. Землячества служили хорошей почвой для революционной деятельности среди студентов, однако почувствовала я это лишь после одной запомнившейся мне встречи.
Как-то меня пригласили в землячество на весенний бал. Я пошла туда с нашими курсистками; и там меня познакомили с одним студентом, фамилию которого память моя не сохранила. Помню лишь, что звали его Василий Иванович и что, по обычаю тогдашних студентов, он носил усы и бородку.