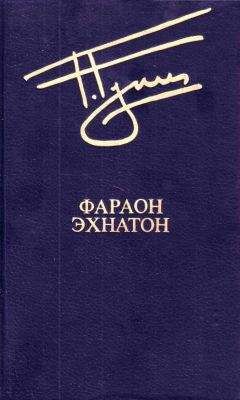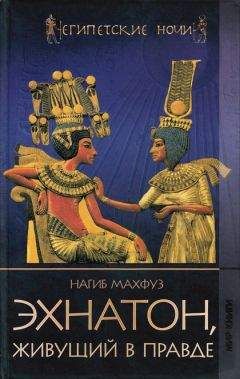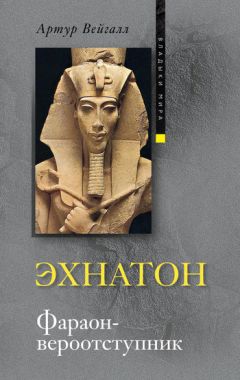Александр Западов - Забытая слава
— Эпистола ваша о стихотворстве всем памятна, — осторожно прервал поэта Никита Иванович, зная, как любил он читать свои стихи.
— Думаю, что так, — уверенно сказал Сумароков. — Комедия на театре полезна и приятна. Опера-комик — французская выдумка и нравоучения не содержит. Зачем нам она? И так без оглядки все перенимаем — обычаи, моды, речи. Особливо падки на чужие слова. Наш язык так заражен этой язвою, что вычищать его очень трудно. Какая нужда говорить вместо «плоды» — «фрукты»? Вместо «комната» — «камера»? Мамка стала гувернанта, любовница — аманта. Мне сказывали, что немка одна в Москве говорила так: «Мейн муж кам домой, стиг через забор унд филь инс грязь». Смешно? Но и этак смешно: «Я в дистракции и дезеспере. Аманта моя сделала мне инфиделите, и я ку сюр против риваля своего буду реваншироваться». Стыдно? И потомство нас не похвалит!
— А вот попробуйте сказать по-русски вашу фразу, — предложил князь Белосельский, — и вы увидите, как неблагородно и грубо она прозвучит: «Любовница мне изменила, но я от соперника своего ее опять отобью…» Мужик так скажет, а дворянину этакая речь не свойственна.
— Полно, ваше сиятельство, — прервал его Порошин. — Мужик такого и говорить не будет. Он любовниц не имеет, и думать о них ему некогда. Император Карл Пятый, например, полагал, что с женским полом даже не на французском, а на итальянском языке говорить прилично. Верить ли нам ему, когда мы и своим языком с дамами беседуем и желанного успеха достигаем? Михайло Васильевич Ломоносов справедливо уверяет, что для всего есть на русском языке пристойные речи. И ежели чего точно изобразить не можем, то не языку нашему, а малому своему в нем искусству должны приписать.
Сумароков с обиженным видом выпил вино. Годы сгладили остроту его споров с Ломоносовым, но похвалы ему в своем присутствии он считал просто невежливостью. В конце концов, он раньше Ломоносова писал о русском языке и не хуже понимает дело. Почему Порошин не ссылается на его мнения?
Никита Иванович понял недовольство Сумарокова и, чтобы переменить материю, рассказал о письме гвардейского офицера, пришедшем из Токая, что в цесарской земле. Офицер поехал туда закупить виноградные вина, а взамен своей комиссии написал о беглом человеке помещика Жолобова. Встретил-де русского крепостного, так просит воинскую команду, чтоб его взять.
— Это, наверное, рекрут, беглый-то? — спросил Петр Иванович Панин, молчавший, когда речь шла на литературные темы. — Бегут рекруты за рубеж, это правда.
— Не знаю, кто он таков, — сказал Никита Иванович. — Я много лет был в Швеции русским министром и все повеления государыни выполнял с наивозможной точностью. Но что касается до сыска и высылки беглых, каюсь, не со всем усердием старался, а проще молвить — и вовсе не искал, хотя писали о том из России часто. Всякому природно выбирать себе жилье, где лучше. Как можно людей приневоливать? А чтоб не бежали мужики, не стража на границе нужна, а другие немаловажные средства. Надобны хорошие порядки в пограничных наших провинциях, чтобы состояние жителей соседней страны здешних не прельщало.
— Почему же только в пограничных провинциях? — спросил Порошин. — А московские или симбирские люди в хороших порядках разве не нуждаются?
— Вы что ж, Семен Андреич, о вольности мечтаете? Вольность — химера, — сказал Петр Иванович, — и крестьянам она вред принесет. Почему бегут рекруты? Причин тут много, и каждая для кого-то свою ролю играет: нерадение властей, лихоимство, отдача в рекруты не в очередь, за то, что взятку не поднес господину своему или воинскому начальнику. Но есть еще причина, едва ли не главная, и состоит она в неограниченной власти помещиков.
Обед закончился, лакеи собирали посуду и ставили на стол новые бутылки. Никита Иванович кивнул Порошину, однако Павел раньше увидел этот знак и поднялся, не дожидаясь кавалера. Конечно, самый интересный разговор начинается после обеда, и уходить мальчику было досадно, однако он привык исполнять предписания Никиты Ивановича, и ему в голову не приходило, что можно ослушаться.
— Пойдемте, сударь, поучимся. На сытый желудок оно сподручнее, — сказал Порошин, стараясь принять веселый тон. Ему также очень хотелось остаться.
Петр Иванович дождался ухода великого князя и продолжал:
— Роскошь в помещичьих домах всякую умеренность превосходит. Для нее господа облагают подданных неисчислимыми сборами и употребляют в работах, не давая отдыха. Жизнь заграничных крестьян потому и соблазняет наших мужиков.
— Люди, Петр Иванович, — сказал Сумароков, — не работы, а каторги гнушаются. Помещик, который обогащается непомерными трудами крепостных, должен быть назван доморазорителем. Это враг природы, тварь безграмотная, он стократно вреднее отечеству, чем разбойник. Имея доброе сердце и чистую совесть, как я могу увеселяться, когда мне такой изверг показывает сады свои, оранжереи, скотину, птиц, рыбные ловли? В его обеде пища — мясо человеческое, а питие — слезы и кровь. Пускай он то сам со своими чадами вкушает! Нет, я с такими кащеями не схожусь и пищи, орошенныя слезами, не приемлю!
— Сильно сказано, — заметил Захар Чернышов. — Но поэту простительны увлечения. Домостроительство состоит в приумножении изобилия. Польза от него та, что прибытки увеличиваются, а тем самым и государство обогащается.
— Чьи прибытки-то? — спросил Сумароков. — Ежели только одного хозяина, так это ему разрешение вина и елея, а крестьянам его — сухоядение. А ведь польза государственная, или, по-другому, общественная, — умножение изобилия всем, а не единому. Понять не в силах: почему называют домостроителями тех жадных помещиков, которые на свое великолепие сдирают со крестьян кожи? Ведь они делают мужиков невинными каторжниками, кормят и поят, как водовозных лошадей, лишь бы не подохли с голоду.
— Вы хотите, чтобы мужика питали устерсами? — засмеялся князь Белосельский.
— Я теперь спрошу, — не обратив на него внимания, продолжал Сумароков, — что приятнее богу и государю: когда господин ест привезенных из Кизляра фазанов и пьет столетнее токайское вино, а крестьяне его едят сухари и пьют одну воду, или когда помещик ест кашу и пьет квас, а крестьяне то же? Вкус помещика потоне, так пускай щи его будут погуще, когда ему угодно. Я думаю, если солнце равно освещает помещика и крестьянина, так можно и мужику такие же есть яйца, какие его высокородный помещик изволит кушать. Это верно, мещанин должен жить пышнее поселянина, дворянин — мещанина, государь — дворянина, но можно и крестьянину есть курицу, как и вельможе, ибо от вельможи прежде всего рассудка надо требовать, а не прожорливости.
— А рассудок, — сказал Петр Иванович, — предписать повинен сочинить положение о работах и податях, где сколько брать, сколько дней на барскую пашню ходить, причем отнюдь не более четырех. Продажу рекрутов запретить, а если продавать мужиков — только семьями. У господ бесчеловечных и жестоких поместья брать в коронное управление и за ними надзор учреждать. Сделаем так — побеги если не совсем прекратятся, то поменеет их изрядно.
— Обсудили, господа сенат? — усмехаясь, спросил Никита Иванович. — Вот и ладно. Жаль, что никто вас не послушает, а то бы вы, подобно государю Петру Алексеевичу, из России некую метаморфозис, сиречь претворение, совершили… не вставая из-за стола, впрочем. Кстати, пора нам в комедию, на придворный театр. Сегодня будет русская пьеса, бывшие ваши актеры играют, Александр Петрович.
Принаряженный Павел вошел в комнату, и Никита Иванович встал, жестом руки приглашая своих гостей проследовать в покои императрицы.
Глава XII
Крепостные и благородные
Они работают, а вы их труд ядите.
Да вы же скаредством и патоку вредите.
А. Сумароков1
Ни при делах, ни в отставке…
Сумароков сначала мучился неопределенностью своего положения, но потом привык. Так оно, пожалуй, и лучше. Кажется, сбывались мечтания юности, о чем было думано в корпусе, — поэт служит отечеству пером, это его долг, стоящий службы судьи и генерала.
Он очень серьезно смотрел на свой литературные обязанности и выше их ничего не знавал. Дело поэта — его слово. Сатира уничтожает пороки, трагедия учит править государством, комедия улучшает нравы. Но, видно, глубоко развратились люди, если не чувствительны они к слову, — подьячие продолжают брать взятки, господа секут мужиков, государи пренебрегают законами…
А годы идут, подступает старость, мучают недуги. Конец пути — может быть, он близок. Вот уже нет Ломоносова. Правда, был он постарше на пять-шесть лет — разве это много? Тредиаковский тяжко болеет, одряхлел и сгорбился. А давно ли…