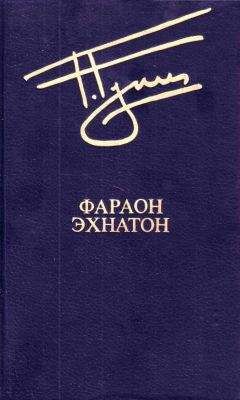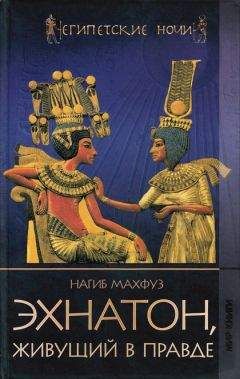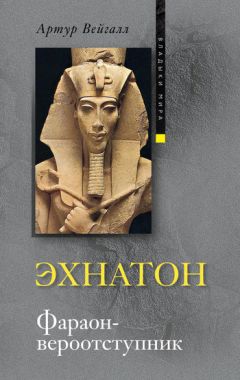Александр Западов - Забытая слава
Жена ездила навещать родственников, как объяснила она, — семейство Балк множилось в Петербурге, выходцы из Германии продолжали вступать в русскую службу, — и возвратилась поздно. А может, она была не там, где сказала? Сумароков не старался узнать истинные причины ее частых отлучек. Супружеская верность выходила из моды, и рогатый муж сделался героем эпиграмм и басен. «Маханье» — флирт, ухаживание за девушками и чужими женами — благодушно признавалось в обществе необходимой забавой молодежи. Сумароков сказал об этом в своих эпиграммах, разошедшихся по городу:
Вчера свершился мой, жена, с тобою брак.
Что думал я найти, не сделалося так.
Жена ему на то: «Не те уж нынче годы,
Трудненько то найти, что вывелось из моды».
Он писал о дерзкой жене и обманутом муже:
Сожительницу Хам имеет за врага,
За то, что сделала она ему рога.
А жонка говорила:
«С рогами трех сынов я Хаму подарила,
А если бы мной он единый обладал,
Не только трех сынов, — щенка бы не видал…»
Сумароков припомнил еще одну свою эпиграмму. Женитьба в ней рассмотрена со всех сторон, и конечный вывод, вероятно, неизбежен:
Ты будущей себя женою утешаешь,
Какую взять тебе, усердно вопрошаешь.
Возьми богатую, так будешь ты богат.
Возьми большой родни, боярам будешь брат.
Возьми разумную, любви к похвальной страсти.
Возьми прекрасную, телесной ради сласти.
А ты ответствуешь: «Хочу иметь покой»…
Так лучше не бери, пожалуй, никакой.
Сам он таким советом в свое время не воспользовался. Жалеть ли об этом? Нет, он был счастлив, — пусть недолго, он отец двух дочерей, но только дети ныне связывают его с Иоганной…
Сумароков спросил у жены о московском обозе. Иоганна похвалила присланную отцом солонину и пожаловалась на затхлость гречневой крупы. Потом будто ненароком сказала:
— К Прохору-кучеру отпустили дочку. Девка молодая, сильная. Пусть помогает отцу на дворе и в конюшне.
— У батюшки она жила в доме, — возразил Сумароков, — и матушка доверяла ей все хозяйство. Нам такой человек не меньше надобен. Ты часто в отъезде…
Иоганна отлично разглядела Веру и поняла, что справку свою Сумароков дал не случайно. Он знает девку, видел ее в Москве, — может быть, выписал нарочно? Но тогда спокойнее, если она будет всегда на глазах, — удобнее наблюдать за ней и за мужем…
— Пожалуй, — согласилась Иоганна. — Возьмем ее — как это назвать? — в ключницы.
— У нас ничего не заперто, — засмеялся Сумароков, довольный, что судьба Веры меняется. — Старые ключи, что от батюшки переданы, растерялись, а других не заказывали. Но это неважно. Приставь ее к белью и припасам.
Он велел кликнуть Веру и ушел к себе. Иоганна долго наставляла девушку, критическим взглядом оценивая нежданную помощницу. Красива и знает об этом, но держится скромно, воли ей старики не давали. «И здесь не увидит», — подумала Иоганна, кончая разговор.
Вера была расторопна и понятлива, она сняла с Иоганны хозяйственные заботы, и сделала это незаметно. Вовремя готовился завтрак, подавался обед, лакеи выглядели опрятнее, вино, чай, сахар не переводились. Но Иоганна проявляла недовольство и не скупилась на брань и выговоры.
Несправедливость жены побуждала Сумарокова усиливать свое внимание к девушке. Она была благодарна ему, ибо нуждалась в заступнике. Наверное, можно бы проситься обратно в Москву, чтобы не слышать попреков Иоганны, но странное дело — ей было жаль оставить барина одного. Вера знала, что ему приятны ее заботы. Он меньше пил, сочинял комедии, бывал на людях, стал спокойнее.
Иоганна также заметила эти перемены и легко сообразила, где искать их причину. Однажды за ужином она сказала:
— Верка избаловалась. Надо высечь ее и отослать. Хватит, погуляла в столице.
У Сумарокова задрожали руки.
— Нет, — решительно ответил он, — наказывать и отпускать незачем.
— Верка! — позвала Иоганна.
Девушка послушно вошла в столовую.
— Подойди поближе. Ты сожгла сегодня мои кружева И раскалила утюг нарочно, бестия!
— Барыня… — начала было Вера.
— Молчи, холопка! — взвизгнула Иоганна и ударила Веру по лицу. — Я из тебя гордость вышибу!
Она замахнулась вторично, однако ударить не успела. Сумароков с перекошенным от гнева лицом схватил Иоганну за руку и дернул к себе с такой силой, что стряхнул с головы свой парик.
Иоганна закричала от боли. Вера с ужасом смотрела на Сумарокова, и слезы медленно катились из ее глаз.
— Иди, — коротко приказал ей Сумароков и ушел в кабинет.
Иоганна, плача, поднялась, оглядела стол и взяла чашку, из которой пил Сумароков. Секунду она подержала посудину в руке, а потом размахнулась и бросила в дверь, закрывшуюся за мужем. Мелкие черепки полетели по комнате. Иоганна вздохнула и направилась в спальню.
Когда все в доме улеглись и стало слышно, как у буфета скребутся мыши, Сумароков без башмаков прошел через столовую. У комнатки Веры он остановился, прислушался, толкнул дверь и переступил порог.
Вера проснулась, вскочила с постели и слабо вскрикнула.
Сумароков обнял девушку.
— Никуда не поедешь, не пущу, обижать не дам, ты моя радость… — зашептал он.
4Панин жил во дворце на правах воспитателя наследника престола и свое свободное от других дел время проводил с ним. Безотлучно с мальчиком находился его кавалер Семен Андреевич Порошин, двадцатитрехлетний офицер, получивший образование в Сухопутном Шляхетном кадетском корпусе. Порошин был человек разумный, честный, прямой, искренне желавший добра своему воспитаннику. По всем этим качествам он совсем не подходил для придворной службы и недолго задержался в кавалерской должности.
Павлу шел одиннадцатый год. Это был болезненный и капризный мальчик, рано понявший значительность своего положения. Он доставлял немало хлопот и огорчений воспитателям, в особенности Порошину, желавшему погасить в нем дурные задатки, развить ум и характер.
В Зимнем дворце наследнику было отведено несколько покоев — учебная комната, опочивальня, парадная зала, столовая, бильярдная. К мальчику приходили учителя закона божьего, истории, фехтования, танцев. Математикой и русским языком занимался с ним Порошин. Павел с утра учился, играл, а вечером бывал на спектаклях французского театра, на придворных ужинах, маскарадах, балах и танцевал с фрейлинами.
За обеденный стол Никиты Ивановича и его воспитанника каждый день усаживались приглашенные гости и друзья. Часто бывали граф Захар Чернышов, граф Александр Строганов, Сумароков, Олсуфьев, голштинский министр при датском дворе Салдерн, Петр Панин. Младший брат Никиты Ивановича, он с юности служил в армии, отличился в Семилетнюю войну и состоял уже в генеральском чине. Братья очень дружили между собой и держались одних политических взглядов — волю монарха они желали ограничить законом, самовластию положить предел дворянской конституцией.
Вино развязывало языки. Во время обеда шел неумолчный разговор, и присутствие мальчика не удерживало собеседников от резких фраз и двусмысленных историй. Порошин понимал, как страдает педагогика от этих сборищ, но Никита Иванович не видел в том ничего особенного, и он должен был подчиняться.
Сумароков находил в кружке друзей Панина единомышленников и любил ораторствовать среди них за стаканом вина, но чужие рассказы выслушивал с меньшей охотой. Эту слабость за ним знали и над ней посмеивались, не переступая, однако, границу доброго обхождения.
На немилость к себе он пожаловался однажды Панину, навестив его во дворце сентябрьским утром.
— Я писал государыне, — сказал Сумароков, — что надобно мне какое ни есть решение дать. Я ни при военных, ни при статских, академических или придворных делах, ни в отставке. Просил что-нибудь со мной учинить. Ведь сколько я России по театру услуги сделал, о том вся Европа ведает, а особливо Франция и Вольтер.
— И какой ответ был? — спросил Панин.
— Никакого. К делам не берут. Милость одна — сочинения мои печатать за счет кабинета. А что напечатано — в народ не пускают.
— Может ли это быть, Александр Петрович?
— И может, и бывает. Сочинил я оду королю польскому Станиславу Августу, новоизбранному Пясту, напечатал — и повелением двора ее императорского величества все экземпляры уничтожены. Черновики я сам изорвал, и эти стихи мои, почитай, для потомства погибли. Что в них императрице не понравилось — ума не приложу. Еще тиснул я басню о двух поварах — там тронул я князя Якова Петровича Шаховского и еще кой-кого, — лист со стихами в типографии арестовали и сожгли. Да, кроме того, Адам Олсуфьев от имени государыни внушение делал — прекратить глупости, одуматься, на горячую голову не писать ничего… Трудно стало мне, Никита Иванович!