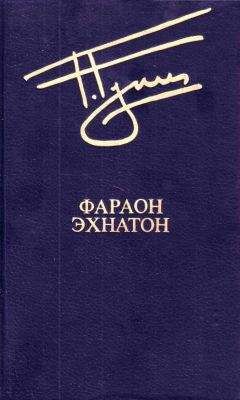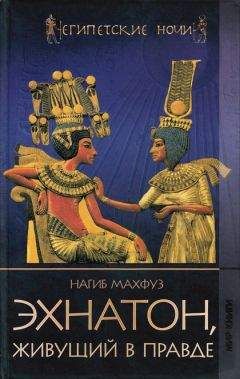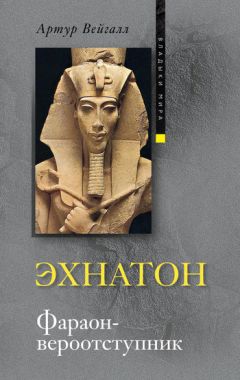Александр Западов - Забытая слава
Он был угрюм, пил, изредка разговаривал с Верой, когда хлопоты по дому оставляли ей свободную минуту. Вера перестала дичиться. Сумароков читал ей стихи, успокаиваясь их ровным течением, декламировал сцены своих трагедии. Девушка слушала благоговейно, иногда принималась плакать. Она скучала без отца, с трудом привыкала к Москве, одиночество начинало ее томить, и при всей рассеянности своей Сумароков стал это понимать.
Понимал многое также и Петр Панкратьевич. Он видел, что сын по-особому смотрит на Веру, и если не называл его чувство любовью, то лишь потому, что это понятие не годилось для отношений между барином и дворовой девушкой. Тут, по его мнению, действовали более простые пружины, и пользоваться ими отнюдь не возбранялось.
Двор собирался отъезжать в Петербург, и Сумарокову нужно было возвращаться к семье. В один из последних дней он попросил Петра Панкратьевича отпустить Веру в столицу повидаться с отцом.
— Я ждал этой просьбы, — ответил Петр Панкратьевич, — чай, не слепой.
Сумароков вспыхнул:
— Разве я дал повод, батюшка…
— Не дал, не дал, — добродушно сказал отец. — Ладно, Александр, твое дело. Скажу одно — берегись Иоганны. Жены — они, знаешь, мужей не всегда понимают.
— Нет, батюшка, — Сумароков был серьезным и грустным, — барские забавы с девушками не по мне. А Вера… Что будет — не ведаю, но сердцем к ней прикипел, на радость, на горе ли — все едино…
Глава XI
Петербургские досуги
Ведь столбовые все, в ус никого не дуют
И об правительстве иной раз так толкуют,
Что если б кто подслушал их… беда!
А. Грибоедов1
Сумароков возвратился из Москвы в смутном состоянии духа. Вслед за ним осенью, по первопутку, с крестьянским обозом, который повезет припасы для стола, назначенные отцом, должна была приехать Вера. Какое место она займет в доме, как встретит девушку Иоганна?
Задавая себе такие вопросы, Сумароков знал, что жизнь его еще более усложнится, но что иначе он поступить не может. Вера была ему необходима. Он часто писал о любви, не зная, сколь внезапно возникает чувство, для которого не существует преград, поставляемых обществом. Как перейти чрез эти преграды, не уронив дворянской чести и сохранив совесть человеческую? Думай, сударь, думай…
Нужно было понять и неудачу «Слова», написанного для коронации. Будто не погрешил он против своих убеждений, и, помнится, государыня сама о законах говаривала и выдержки из книги президента Монтескье вслух читывала. Она была тогда еще великой княгиней. Но неужели, поднявшись на другую ступень, человек должен отказываться от всего, чему верил, и находить для себя новые пути и цели?
А ведь, пожалуй, в этом причина перемены. Просвещение просвещением, но, взявши скипетр, держи его крепко, чему законы и помешать могут… Если так — умна Екатерина Алексеевна, ничего не скажешь, но будет ли она просвещенным монархом или склонится в деспотичество — лишь время покажет. И что-то уже замечается.
В Москве после коронации были большие разговоры о замужестве императрицы. Быть ли ей за Григорием Орловым? Он добивался этой чести, братья поддерживали его притязания. Марьяж сулил Орлову неслыханную силу.
Другие участники переворота брачный проект отвергали. Екатерина и сама понимала, что брак с Орловым не подходит ей ни в личных, ни в государственных целях, но некоторое время уклонялась от прямого отказа, потому что боялась восстановить против себя Орловых.
Григорий напирал на то, что такие браки в царском доме бывали, и приводил в пример Елизавету Петровну, повенчавшуюся в церкви с казаком Алексеем Разумовским. Орловы же как-никак российские графы.
Дворянство было настроено против брака царицы с Григорием, и, до конца убедившись в этом, Екатерина распорядилась прекратить толки о марьяже. Кое-кого из врагов Орловых, грозивших с ними покончить, выслали в деревни и посадили в крепость, а для прекращения разговоров о том, что в Москве-де зачали пропадать камер-юнкеры, был сочинен манифест о молчании.
Так для себя назвала свой указ Екатерина. Сенатский секретарь, предшествуемый барабанщиками, собирал народ и читал на площадях манифест с его полным титулом: «О воспрещении непристойных рассуждений и толков по делам, до правительства относящимся».
Рассуждения указано было прекратить. Екатерина писала:
«Являются такие развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем и спокойствии помышляют, но как сами заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных».
Аресты в Москве среди гвардейских офицеров и придворных вызвали неприятные слухи, и продолжать эти меры не решились. Надо бы, конечно, людей с длинными языками предавать достойной казни, но, как говорила Екатерина, ей мешает сделать это природное человеколюбие. Потому приходится только увещевать подданных удалиться от всяких вредных рассуждений, нарушающих тишину и покой в государстве Российском.
Манифест о молчании очень смутил Сумарокова. Не то чтобы он отнес эти увещевания к себе, — нет, болтовня о том, что творится во дворце, никогда его не занимала, — но требование не рассуждать вызывало протест. «Не рассуждать» было приказом «не думать», а такой власти за монархиней Сумароков признать не мог.
Сомнения копились, и, чтобы избавиться от них, Сумароков собрался ехать к Панину.
Никита Иванович Панин был на год его моложе, но по службе и чинам обогнал далеко. Сын именитого генерала, он пошел по дипломатической части. Императрица Елизавета обратила на него свое благосклонное внимание. Панин уклонился от роли фаворита и уехал посланником в скандинавские страны — в Данию, а затем в Швецию.
В этой стране Никита Иванович провел двенадцать лет и возвратился только в 1760 году, когда императрица назначила его воспитателем шестилетнего Павла, сына Петра Федоровича и Екатерины. Очень скоро Панин восстановил дружеские связи в России, завел новые, сделался ближайшим советником правительства, и его слово нередко было решающим в вопросах внешней политики.
Шведские порядки нравились Панину. Там правил король, но волю его связывала конституция. Королевский совет, состоявший из родовых аристократов, зорко наблюдал за монархом, не позволял ему самостоятельных действий. Такой способ правления Панин желал видеть и в России. Сумароков был с ним согласен.
Екатерине Алексеевне Панин внушал мысль о том, что царствовать она сможет только с помощью опытных руководителей в каждой отрасли управления. Сенат — помощник плохой. Он законов не издает, лишь следит за выполнением старых. Законы же и указы не всегда имели твердое основание: многие издавались наскоро, неосмотрительно или пристрастно, в угоду фаворитам, для чьей-то выгоды.
Панин мечтал о господстве аристократии. Его доводы не убедили Екатерину. Согласившись вначале на создание императорского совета, она выбрала восемь его членов и даже подписала указ, но вечером того же дня надорвала свою подпись, сказавши вслух:
— Иной человек долго жил в той или другой земле и думает, что везде по политике его любимой страны учреждать должно. Напрасно он так считает. Мы своих внутренних порядков менять не будем.
Это был приговор Панину с его шведскими образцами. Однако он сдаваться не собирался.
2Никита Иванович Панин встретил Сумарокова приветливо.
— Российскому Мольеру и Расину почтение! — весело сказал он. — Давненько не виделись! Или у вас на Парнасе отпусков не дают?
— Не упомню, когда и бывал там, — отшутился Сумароков. — Пегас мой, видно, совсем постарел, из конюшни не выгонишь. И не о нем речь, Никита Иванович. Объясните мне: что происходит? То, что раньше хорошо было, — теперь плохо. Сочинения мои приказано печатать за счет кабинета, а в пропуске «Слова на коронацию» мне отказано. Писал же я там лишь про то, о чем раньше с государыней говорено было.
Панин значительно улыбнулся.
— Видно, что вы поэт, а не политик, Александр Петрович, — ответил он. — Одно дело — великая княгиня, другое — самодержавная императрица. Раньше она могла себе поблажки делать, рассуждать с приятелями, а ныне каждое слово ее на скрижалях высекается, ничего на ветер молвить нельзя. За все, что творится в Российском государстве, она в ответе.
— А я разве спорю? — спросил Сумароков. — И я тех же мыслей. Монархическое правление — я не говорю «деспотическое» — есть самое лучшее. Но для этого нужен монарх просвещенный.
— Такого монарха, к счастью своему, Россия имела, — сказал Панин. — А после него порядка у нас поубавилось. Взять эпок царствования императрицы Елизаветы Петровны. Генерал-прокурор князь Трубецкой не законы и порядок соблюдал, но был угодником фаворитов и случайных людей. В тот эпок все жертвовали настоящему времени, о будущем не думали и знатные должности по прихоти, а не в знаменование отлично хороших качеств раздавали. Временщики и куртизаны в домашнем кабинете императрицы главную силу имели, и кабинет сей претворился в самый вредный источник не только государству, но и самому государю. Дела решались по указам, а если подходящего не находилось — сочиняли и государыне на подпись давали. Каждый по произволу и по кредиту дворских интриг хватал и присваивал себе государственные дела, соображаясь со своей выгодой.