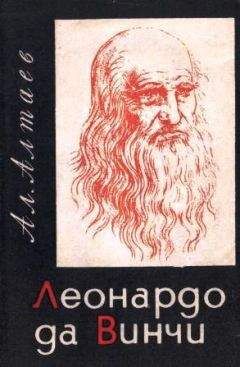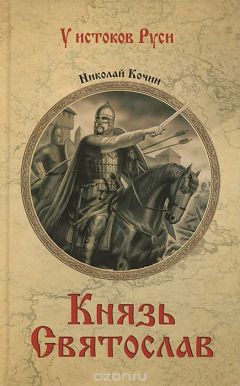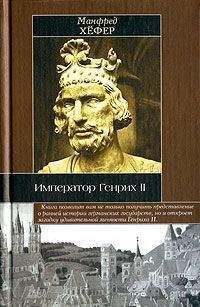Николай Кочин - Князь Святослав
— Не хочу на Дунай. Кроме того, я — христианка.
— И жена моя дунайская — христианка. Ну и что же?
— Новая вера запрещает поганские привычки — держать табуны жён. Это — варварство.
— Откуда слова такие? А? Матушки слова.
— Да. Она меня крестила. И я рада, что увидела свет. Отпусти свою жену христианку… Жёны смердов счастливее нас. Кто бы знал, какой это ужас быть одной из многих… И все твои жёны — несчастны… Прощай! Дай я тебя обниму и поцелую. Ты был лучше других, и всё-таки никому этой судьбы — быть холопкой князя, не пожелаю. Никто из вас, берущих нас между делом, походя, не заглядывал в раненое сердце женщины.
Святославу эти речи казались только забавными. Одни подвиги воина он считал достойными изумления и делом самым важным на земле, даже угодным богам.
— Если когда-нибудь вернусь из своих мест с Дуная, заеду в Новгород… Не поминай лихом. Я всегда выделял тебя из всех своих наложниц…
— Сколько их у тебя?
— Не знаю. Не помню. Не считал.
Они крепко обнялись. Малуша зарыдала, и слезы её покапали на его руки.
И когда он садился на коня, она стояла на крылечке и не сводила с него глаз. Потом махала платочком в ту сторону, куда он уехал. А кругом был один только дремучий лес, который глухо шумел и качал верхушками деревьев.
Когда Святослав прибыл к лодейщикам, он первым встретил Янку.
— Ну, Янко, с плеч долой все заботы. Ранней весной поедем на Дунай. Затого прощайся с родными.
— Какие родные у меня? Я бродяга, холоп. Куда ты, туда и я. Ох! — он взвизгнул даже от удовольствия. — Увижу море. Царьгород, заморские земли. Индо дух захватило…
Глава XIX.
ПОСРАМЛЕНИЕ ЕПИСКОПА
968 г. оказался для Никифора наиболее тяжёлым. Воевода Волк всё ещё сидел в Великой Преславе, значит Святослав не отказался от претензий на Балканы. Мысль о тайных замыслах киевского князя не давала василевсу покоя. Кроме того, арабы отвоёвывали одну за другой византийские провинции в Сирии. А тут ещё неожиданные неприятности в Италии. Восстановив «Священную римскую империю», Оттон взял в ленную зависимость некоторых князьков южного полуострова, хотя они были вассалами Никифора. Узнав об этом, василевс собрался воевать. Но Оттон вознамерился взять его хитростью. Он послал к Никифору опытное посольство во главе с учёным, умным и плутоватым Лиутпрандом, чтобы оно просило руки царевны Анны для сына Оттона. Оттон надеялся, что Никифор отдаст ему южные владения Италии в качестве приданого за Анной. Но таким домогательством германский император вызвал в Никифоре одно только озлобление.
Лиутпранд приехал в Константинополь в июне 968 года. Его встретили крайне неприязненно. С ним обращались не как с послом «Священной римской империи», а как со шпионом. Унижали при каждом удобном случае, всячески оскорбляли и третировали, держали на полуголодном положении. Послов Оттона даже никто не встретил при въезде в столицу. Наоборот, их умышленно задержали, заставили долго ждать под проливным дождём у Золотых ворот. Потом им велели сойти с лошадей и пешком прошагать узкими улицами по колено в грязи, вплоть до «Мраморного дворца», предназначенного им для жилья. Это было мрачное каменное ободранное снаружи здание, по которому гулял ветер, а прогнившая крыша протекала. От холода у послов не попадал зуб на зуб. Даже воды им туда не доставляли, и послы вынуждены были сами выходить на улицу и покупать у уличных водоносов пресную воду для питья и бытовых надобностей. Стража никуда их без особого на то разрешения не выпускала, и для каждого случая следовало испрашивать особую унизительную просьбу.
Епископ Лиутпранд, разъевший дома брюхо на сладостях и изысканных кушаньях, в своих записках, в которых он злобно осмеивал ромеев, горько жаловался даже на то, что вино и то отвратительно пахло смолой.
Принял Лиутпранда не сам василевс, а пьяный куропалат Лев Фока, который даже не взял из рук Лиутпранда письмо от Оттона, а вместо себя велел это сделать переводчику. В придачу к этому куропалат нарочно называл Оттона не императором (дескать, это титул во всем мире одного только ромейского самодержца), а простым королём, что для послов, привыкших чтить своего Оттона первой фигурой среди «великих» правителей мира, было крайне оскорбительным. Только после тяжёлых душевных передряг Никифор принял Лиутпранда в знаменитом зале — Триклинии.
Василевс держался с послами крайне надменно, сидя на золотом троне, который стоял на помосте, и к нему вели несколько ступенек, покрытых порфиром.
Как только ввели послов, василевс порывисто поднялся и принялся топать ногами и кричать на них, упрекая Оттона в вероломстве, в том, что он гнусно нарушил права ромейской державы, напавши на итальянские города, принадлежащие Византии.
— Так как твоему господину, — орал изо всех сил Никифор, — не удались предприятия против моих законных провинций, то теперь он — ехидный и коварный плут — послал к нам тебя, тоже продувную бестию, под ложным предлогом дружбы, а на самом деле с той единственной целью, чтобы шпионить за нами, а потом нагадить нам, как последний проходимец.
Лиутпранд принялся рьяно оправдываться, заверять Никифора в благородных своего императора намерениях и чувствах и в искренних и горячих его желаниях породниться с дражайшим владыкой василевсом ромейским.
И тут, никем не сдерживаемый, он вступил на стезю привычной риторики и. начал прославлять Никифора:
— О, ты единственный, соединяешь несоединимое: сообразительность и кротость, ни с чем несравнимый разум и не имеющие себе равного доброе расположение…
Но Никифор грубо оборвал его:
— Оставь, епископ, красивое говорение и гнусную лесть для лупанарных баб. Я знаю подобных тебе мастеров, умеющих ловко представить малое великим, великое малым, выдать старое за новое, а новое признать старым, а низости придать видимость благородства. Выслушивать мне эти жалкие речи недосуг. Должен идти на молитву в собор святой Софии. Иди и ты, коли не богохульник.
Лиутпранду пришлось принять и эту горькую пилюлю.
— Почту за великое счастье, — лепетал он. — Клянусь душами блаженных самодержцев… Свидетель бог и его всевышняя мать… Такое, Вашего величества, апостольское благодеяние…
Но епископа никто не слушал и бесцеремонно посадили его рядом с певчими, и с певчими он ехал в церковь, что было крайнею степенью непочтительности, даже насмешкой. И он вынужден был всю дорогу выслушивать словословие в честь Никифора, который очень медленно продвигался по улице:
— Вот идёт утренняя звезда, — пели певчие, — вот поднимается всевышняя заря. Он, тот великий помазанник бога отражает в своём взгляде солнечные лучи. Вот шествует бледная смерть сарацин, царь Никифор! Многие лета пресветлому августу Никифору второму. Все народы приклоняйтесь перед ним, всеподданнейшие почитайте его, склоняйте ваши выи под его богоугодную и вседержавную власть!»
Чтобы пустить пыль в глаза посольству, ещё больше повеличаться перед ним, Никифор велел Лиутпранда позвать во дворец на пир.
Высшие сановники, епископы, иностранные послы, министры, полководцы наполняли роскошный зал.
Позолоченные плафоны; стены дворца, изукрашенные мозаикой, изображающей деревья, цветы и плоды; пол, выложенный драгоценных сортов мрамором; канделябры, с пылающими массивными свечами — всё это ошарашило германцев. На противоположной от входа стороне зала стоял на возвышении полукруглый стол с диваном на двенадцать персон. Тут было место василевса и лиц самого высокого ранга. Перед этим столом размещались двенадцать других столов, которые были убраны золотой утварью. Перед каждым таким столом тоже стоял диван на двенадцать персон. Места эти были так расположены, чтобы никто из присутствующих не очутился спиной или боком к василевсу. По обеим сторонам царского стола находились певчие из храма святой Софии…
Вдруг поднялся пурпурный занавес, и все гости упали ниц и каждый прикрыл глаза рукой, как бы ослеплённый блеском солнца: то вошёл василевс. Не шевелясь, распростёртые вниз лицом какое-то количество минут, гости стали подниматься один за другим и занимать места по указанию особого чиновника. Тут всё до мельчайших деталей было регламентировано и предусмотрено: кому где и с кем сидеть, против кого и на каком расстоянии от василевса. Расселись торжественно, чинно, молча, с умилением в глазах, устремлённых в сторону василевса. Лиутпранд со свитой сидели на последних местах, неуважение к ним всеми подчёркивалось.
Вот царь подал знак певчим, и те затянули гимны в честь «Его царственности» «Севаста, Августа Священного…» При словах, призывающих хранить жизнь василевса, все как один поднялись и сбросили верхние накидки. Когда пение закончилось, опять их надели. И вот стали подавать греческие блюда, сильно приправленные оливковым маслом, чесноком, луком. Потом пошли бесконечные десерты из сладких блюд, плодов и ягод. Их приносили в золотых чашах, очень громоздких, массивных и тяжёлых. И чаши эти подавали на стол посредством особых приспособлений. Обед тянулся очень долго, медленно, томительно и чинно. Никифор никого из свиты Оттона не пригласил к своему столу. Напротив, он едко надсмехался над Оттоном, над его послами и даже выразился так: