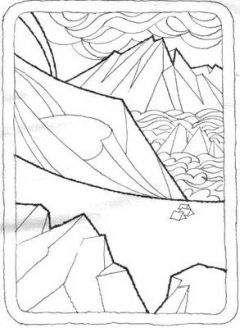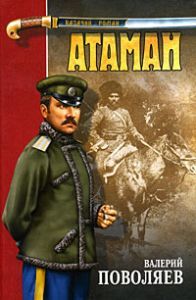Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич
Атаман врал, Эпов молчал и удивлялся про себя, как ловко Калмыков это делает — комар носа не подточит
— В общем, мне надоело подставлять физиономию под оплеухи, — сказал атаман, раздраженно подергал усами. — Арестуй Кандаурова вместе со всем его отделом и — он выразительно чиркнул концами пальцев по воздуху и добавил: — всех, кроме Юлинека. Отдел этот надо создавать заново.
Кандаурова и его людей Эпов не любил, поэтому приказание атамана выполнил с удовольствием, а выполнив, брезгливо поморщился:
— Чтобы другим было неповадно марать честь войска.
Кандаурова с сотрудниками зарыли там же, где зарывали мадьяр, немцев и пленных красноармейцев — всех примирила, всем дала вечный кровь земля-матушка.
Юлинек в эти дни старался не выходить из вагона — боялся.
На улице стоял октябрь — месяц на Дальнем Востоке благодатный, золотой; половина Хабаровска пропадала в тайге — люди колотили тяжелыми дубинками по кедровым стволам, сшибали шишки с орехами, ловили на зиму птиц, в речках брали рыбу, готовившегося скатиться в Амур.
В эти дни Калмыкову представили нового начальника юридического отдела — сухопарого, лысоватого, с тонкими, криво изогнутыми ногами человека по фамилии Михайлов.
Когда Михайлов вошел в кабинет атамана и представился, Калмыков немедленно поднялся из-за стола, быстрыми мелкими шагами обошел гостя, разглядывая его не только с «фасада», но и с «черного хода», как говорил он, остановился напротив и заложил руки за спину:
— Михайлов, значит?
— Так точно, Михайлов, — спокойным густым басом ответил тот. Голос у Михайлова не соответствовал фигуре, такой бас должен иметь какой-нибудь богатырь с плечищами в полкилометра, а не этот выжаренный кривоногий хлюпик.
— Михайлов… — задумчивым тоном повторил атаман.
— Так точно! — громыхнул в ответ сочный бас.
— Знай, дорогой друг, — голос Калмыкова наполнился теплом, стал неузнаваемо сердечным, — мне нужен такой юрист, который, когда я расстреляю кого-то, сумел бы отбрехаться… Понял? Слишком уж много народа, дорогой друг Михайлов, на меня наваливается, обвиняет во всех смертных грехах… Сумеешь от этих волкодавов отбрехаться?
— Попробую.
Атаман усмехнулся.
— Только тут, друг Михайлов, надо действовать наверняка, иначе, как у германцев, «жопен зи плюх» будет. Нам этого допускать никак нельзя. Иначе… в общем, ты сам понимаешь, что может быть иначе.
Глаза у Михайлова печально потемнели.
— Понимаю.
— Все, можешь идти. Приказ о назначении я подпишу сегодня. — Калмыков резко, на одном каблуке повернулся и направился к своему столу.
Михайлов исчез, словно дух бестелесный — бесшумно и совершенно незаметно.
Очень скоро он понял, что атаман готов расстреливать не только «мадьяр, немцев и большевиков», но и своих товарищей, сослуживцев по Уссурийскому казачьему войску — слишком уж много они знали о Калмыкове, слишком здорово он был засвечен. Атаман же, ощущая собственную уязвимость, невольно скрипел зубами — он ненавидел старых фронтовиков-однополчан, морщился, будто проглотил что-то кислое, когда думал о том, что любой из них может забраться в его атаманское седло, и тогда уссурийское войско поскачет дальше с новым предводителем.
В Хабаровске Калмыков пошил себе новую форму. Генеральскую. Хотя в генералах его никто не утверждал — было всего лишь решение войскового круга, и только… Но войсковой круг после этого уже несколько раз смещал его с атаманской должности, а раз это было так, то значит, попер из генералов. Впрочем, Маленький Ванька на это не обращал внимания — пусть забавляются однополчане.
Форма получилась роскошная, атаман глаз не мог оторвать от зеркала, когда рассматривал в нем себя — он и ростом в этом наряде был выше, и в плечах шире, и статью помощнее, а главное — мундир был украшен настоящими генеральскими погонами.
Атаман натянул поверх кителя шинель. Шинель с окантованными широкими отворотами понравилась ему даже больше мундира.
— Гриня! — выкрикнул он, подзывая к себе ординарца
Тот явился незамедлительно, будто из-под земли вынырнул.
Калмыков развернул ординарца вокруг оси.
— Ну-ка, ну-ка…
Ординарец удивленно поднял брови.
— Вы мне скажите, Иван Павлыч, чего надо, я сам все сделаю, — недоуменно пробормотал он.
— Мы с тобою, Гриня, одной комплекции или нет?
— Вроде бы одной, — не понимая, что происходит, проговорил ординарец.
— Вроде бы, вроде бы… — передразнил его атаман и стащил с себя шинель с широкими генеральскими отворотами, подкинул на руках, берясь за нее половчее и натянул на ординарца. Похлопал Гриню по плечу. — Во — враз человеком стал.
— Да вы что, вы что, Иван Павлыч, — замялся ординарец, — неудобно как-то…
— Неудобно с печки в штаны прыгать — промахнуться можно… Дайка я погляжу на тебя со стороны.
Смотрел атаман на Гриню со стороны и видел себя, и любовался собою — лицо у него сделалось расслабленным, мечтательным, рот удивленно открылся, будто у мальчишки, ничего сейчас в Калмыкове не было от грозного атамана — пацан и пацан. И выражение у него на лице было пацанье. Он вновь развернул ординарца, потом еще раз развернул, восхищенно прищелкнул языком. Больше всего ему нравились яркие канты, которыми были обиты обшлага и борта шинели, золотой позумент на серебряных казачьих погонах и литая, будто бы сработанная из металла грудь.
— Молодец портной, — похвалил мастера атаман, — надо бы выписать ему гонорарий за работу.
— За такую шинель — не жалко, — ординарец деликатно покашлял в кулак.
Примерка происходила на большой застекленной веранде дома, который занимал Калмыков. Здесь стояли столы, стулья, в углу на гнутых дубовых ножках высилось большое старое зеркало, в которое сейчас смотрелся атаман. Веранда выводила в сад, огороженный частоколом, за садом стоял наполовину вросший в землю старый дом с подслеповатыми пыльными окнами, под крышей дома нависали кроны двух раскидистых черемух, в которых галдели, обсуждая какие-то свои птичьи проблемы, десятка три воробьев.
Сквозь щель между двумя занавесками Калмыкова изучал в бинокль невысокий, с короткой плотной шеей человек, досадливо откидывался назад, протирал пальцами глаза, потом протирал окуляры бинокля и снова вглядывался в веранду, на которой находились атаман с ординарцем.
Это был товарищ Антон.
Изучал он Калмыкова минут двадцать, потом отложил бинокль в сторону и озабоченно помял пальцами шею. Негромким голосом позвал своего напарника:
— Товарищ Семен!
В глубине дома, за занавеской, раздались легкие, почти невесомые шаги — так умеют ходить только охотники, — и перед руководителем группы предстал юный человек, почти мальчик, с голой бледной шеей и широко распахнутыми голубыми глазами.
— Да, — тихо, почти шепотом произнес он.
— Сегодня вечером будем снимать петуха с насеста, — сказал Антон, — хватит ему кур топтать, кончился воздух… Все, достаточно.
— Я готов, — прежним бесцветным шепотом проговорил юноша, — винтовка пристрелена, смазана…
— Проверь патроны.
— Патроны проверены.
— Хорошо, — удовлетворенно произнес Антон, — мое дело будет — грамотно организовать тебе отход.
Действие его по части грамотного отхода сводились к одному — посадить в укромных местах двух пареньков с наганами, которые в случае погони смогли бы подстраховать уходящего боевика; других подстраховок Антон организовать не мог. Аню Помазкову он решил из дома Серушкина пока не выпускать — опасно.
Пройдясь по улице, Антон нашел два укромных места: одно — за гигантской поленницей, сложенной у забора купца Маринихина, второе — в зарослях молодых елок с низко опущенными лапами, окаймлявших пешеходную дорожку, ведущую к пятистенке золотошвейки Разумовой — из этих точек и обстрел был хороший, а главное, стрелков можно было отыскать не сразу.
— Все, до вечера, до темноты — отбой, — скомандовал своим подопечным товарищ Антон.