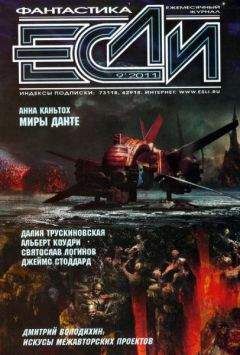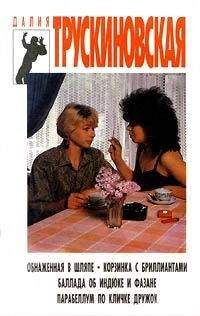Далия Трускиновская - Сыск во время чумы
– Уехали, а француженку забыли, – задумчиво произнес Архаров. – Скотство это.
– Скотство, – подтвердил Шварц. – Да только с перепугу. Так-то они ее хорошо содержали и платили изрядно. А, может, и не только с перепугу. Сказывали, будто с молодым графом спуталась. Так что старая графиня тут прямой расчет имела: забыть девицу в пустом доме, авось сгинет, и одной заботой у нее станет меньше.
– А что за молодой граф? – как бы рассеянно полюбопытствовал Архаров. – И где он обретается?
– Да там же, в подмосковной, поди, – с таким тонко преподнесенным пренебрежением отвечал немец, что Архаров, глядевший себе под ноги, вдруг поднял глаза и уставился на него исподлобья.
Они поняли друг друга без слов – молодой граф не служил, он жил при родителях, уж как-то его избавили от военной обязанности, не подумав о том, что не служить для дворянина – бесчестье.
– Здоровьем хвор, что ли? – стараясь соблюсти беспристрастность, спросил Архаров.
– Я не имел чести беседовать с его докторами, – преспокойно отвечал Шварц. И тут они тоже поняли друг друга – молодой граф Ховрин, надо полагать, был здоров, как молодой бычок.
Общая картина Архарову была понятна. Когда в одном доме живут недоросль и девица, занимающая особое помещение, добра не жди. И о чем только думают дуры, попав в богатые дома? Нешто не видно, что на страже сыночка стоит благоразумная маменька, которая если даже и допускает интрижку, то тщательно следит, как бы оная интрижка не получила избыточного развития? Нешто не ясно, что гувернантка, пусть даже божественно играющая на клавикордах, не пара графу Ховрину? Музыка – одно, фамилия – другое.
Левушка молча шел рядом, тоже глядя себе под ноги. Вдруг он повернулся к Архарову.
– Сорок сороков – это по всей Москве! А Марфа – толстая!
– Ну и что с того? – откровенно удивился Архаров.
– Она далеко бегать не станет! Рябая оклюга где-то поблизости! Тут же, поди, в Зарядье!
– И тут храмов тоже немало, – возразил Архаров. – Карл Иванович, ты во всяком деле порядок любишь. Сколько в Зарядье и поблизости Божьих храмов?
Немец задумался, и Архаров увидел, что он потихоньку загибает пальцы. От этого тихого движения сделалось страшно – он ведь и впрямь считал известные ему церкви и церквушки!
– Да будет тебе! – прекратил он это нелегкое занятие. – Тут без мортусов не обойтись. Только они, может, и знают, который из храмов именуется рябой оклюгой.
– Благоразумнее всего побывать на бастионе вечером, когда они там собираются для переклички и ночлега, – сказал Шварц.
Архаров кивнул.
С тем они и расстались, в общем-то довольные продолжением знакомства. Хотя и Архаров не узнал, где искать сведения о трех меченых рублях, непостижимым обраом встретившихся у него на тюфяке, и Шварц не видел пока способа накрыть мародеров в их гнезде.
Но вечером выбраться на чумной бастион не удалось.
Архаров напрочь забыл, что на 4 октября было назначено отпевание покойного митрополита. Граф Орлов принялся готовиться к этому событию, в еропкинском особняке началась суматоха, и мортусы вспомнились уже ночью. Архаров с Левушкой решили, что за ночь рябая оклюга никуда не денется, постановили ехать на бастион сразу после отпевания и заснули.
* * *Утром граф велел позвать к себе Архарова.
– Вот уже и хороним владыку, – сказал он. – А как твой розыск?
– Есть основания полагать, что не далее, как сегодня после обеда смогу доложить о личности преступника, – сказал Архаров, имея в виду визит к мортусам.
Правда, после выясения правды о «рябой оклюге» следовало отыскать ее и поклониться полуполтиной от Мрфы некому Герасиму – но Герасим в ответ рассказал бы, как сошлись вместе три рубля, и это уже была бы ниточка, на другом конце – злодей. И смертельно любопытно, как к рублю, оставленному у дверей Устинова домишки, примешались два других, из коих один – отданный за упокой его же, Устиновой, души!
– Ты след взял, что ли? А что я тебе толковал? – обрадовался граф. – Гляди, справишься – награда будет знатная! А что, кто на примете?
– Дьячок Всехсвятского храма Устин Петров. Он в этом деле самый подозрительный.
Граф посмотрел на Архарова с удивлением – он не ждал, что виновник сразу будет назван по имени. Архаров кивнул.
Колонна, отправлявшаяся к Донскому монастырю, строилась на Остоженке и заняла немало места. Кабы не чума – сильно бы мешала проезду карет и телег. Но по случаю чумы улица была пустынна.
Оставив сколько надо людей для охраны особняка, Архаров, Волков и Еропкин сели все трое в одну карету и возглавили колонну. За ними в ряд по трое ехали гвардейцы. И, хотя отправились в путь заблаговременно, прибыли как раз к началу отпевания – впрочем, коли бы граф изволил задержаться, то и отпевание бы без него не начинали.
Замоскворечье тянулось, как долгая зима, и было таким же унылым. Люди попрятались, колонна шла в полной тишине. Даже колокола не звонили.
Ближайший колокол, подавший гулкий голос, как раз и был в Донском монастыре.
Карета подкатила к воротам, Орлов с Волковым и Еропкиным вышли, пересекли двор, с непокрытыми головами вошли в тот храм, где был изловлен покойный владыка Амвросий.
Там уже стоял на возвышении гроб, а в нем можно было, встав на цыпочки, разглядеть правильное лицо старца с ровно расчесанными волосами, уложенными по плечам, с короткой бородой и с двумя ранами на левой щеке – как говорили Архарову монахи, их нанес первый из убийц случившимся в руках колом. Проверить сие было невозможно.
На голове у владыки Амвросия была шитая жемчугом митра, в бледных руках – небольшой крест.
Народу в храм набилось немало – и это невзирая на чуму. Приплелись старушки-богомолки, которые уж не один десяток отпеваний видели. Архаров поглядел на них с любопытством – ему сделалось любопытно, о чем они шепчутся, поминают ли покойника, или спорят, сколько должно быть при его церковном ранге певчих на хорах.
Для графа и его свиты было оставлено место справа от иконостаса и уже охранялось поспешившими вперед измайловцами под командой Фомина. Главное было – избежать соприкосновения с толпой.
Когда Орлов, Волков и Еропкин встали впереди офицеров, бывший рядом инок подал знак – начинать. Раздался голос, своей торжественностью враз прекращающий тихие разговоры и вселяющий в храм скорбную тишину:
– Благословен Бог наш ныне, и присно, и во веки веков!..
И тут же другой голос начал псалом девяностый – «Живый в помощи Вышняго…»
Архарову доводилось бывать на панихидах, хотя и реже, чем церковным старушкам. Псалом он тоже знал – с детства, когда учился читать по божественным книгом под руководством старого пономаря. И тогда же он задал вопрос, на который до сих пор не получил ответа: «перьями Своими осенит тебя», сказано в псалме, но что за перья?.. Пономарь объяснял про крылатых ангелов, херувимов и серафимов, но речь-то шла не о них.
Архаров невольно отвлекся, вспомнил лицо пономаря; вспомнил ту осень, когда задавал вопросы; комнатку простую со стенами, не оклеенными обоями; молодое лицо матушки, которой не видал целую вечность, вспомнил и ощутил досадливую неловкость; деда с его охотничьими рассказами; еще что-то – а меж тем отпевание совершалось должным чином, иереи кадили, голоса певчих играли и переливались в вышине. Странная расслабленность снизошла на душу – Архаров, пытаясь истребить позникающие перед внутренним взором картинки давнего житья, принялся сам, своими словами, просить у Господа милости для владыки, погибшего мученической смертью за то лишь, что был умен, многознающ и желал прекратить распространение заразы.
На ум пришел старый инок, рассказавший, что владыка Амвросий был в свое время префектом Александро-Невской семинарии, и Архаров вдруг представил себе: как было бы славно, коли бы все те иереи, которых он обучал служению, встали сейчас на молитву. Эта придуманная им картина очень ему самому понравилась. Он мысленно попросил Господа об этом – и свеча, на которую он глядел, вдруг выкинула вверх длинное и острое пламя, как если бы ответ на прошение был милостивым.
После канона запели стихиры, после восьми стихир последовали заповеди блаженств – как если бы душа владыки Амвросия, устремившись ввысь, уже предстала перед раскрытыми вратами Божьего рая и первым узрела евангельского благоразумного разбойника…
– Разбойника, рая, Христе, жителя, на кресте Тебе возопиша, помяни мя, предсодеял еси… – произносил нараспев быстрый, но отчетливый голос, и тут у дверей храма возникла суматоха.
– …покаянием его, и мене сподоби недостойнаго… – успел еще пропеть голос, и тут был перекрыт криком.
Так кричит человек, испытывающий сильнейшую боль, подумал Архаров, и что же могло стать источником боли в храме Божием?
Но одновременно он уже подтолкнул Левушку, стоявшего рядом, да и другие офицеры графской свиты стали пробиваться к месту зарождения суматохи.