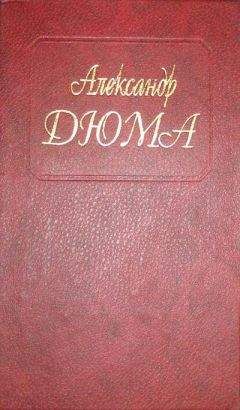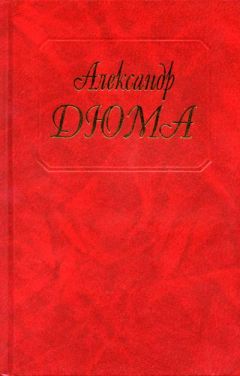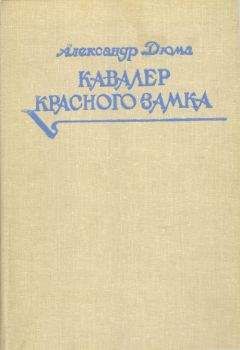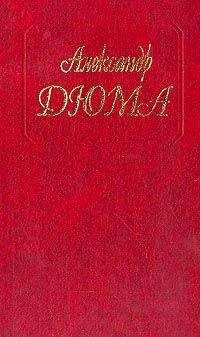Александр Дюма - Красный сфинкс
Какое-то мгновение она смотрела на кардинала, не узнавая его в костюме дворянина, ведь она видела его в монашеской рясе.
— Кто вы? — спросила она. — Я узнаю ваш голос, но вас я не знаю.
— Я тот, кто дал вам одежду и тепло, кто даст вам хлеб и свободу.
Она напрягла память и, казалось, вспомнила.
— О да, — сказала она, подавшись к кардиналу, — да, вы обещали мне все это, но… — она оглянулась кругом и, понизив голос, продолжала: — Но сможете ли вы сделать то, что обещали? У меня грозные и могущественные враги.
— Успокойтесь, у вас есть защитник более грозный и более могущественный, чем они.
— Кто же?
— Бог!
Госпожа де Коэтман покачала головой.
— Он давно забыл обо мне, — сказала она.
— Да, но когда вспомнит, он уже не забывает.
— Я очень голодна, — произнесла узница.
И туг же, словно во исполнение отданного ею приказа, дверь отворилась, и вошли две монахини, неся хлеб, вино, чашку бульона и холодного цыпленка.
Увидев их, г-жа де Коэтман закричала от ужаса:
— О! Мои палачи, мои палачи! Спасите меня! Она присела на корточки за креслом кардинала, чтобы неизвестный ей защитник оказался между нею и монахинями.
— Того, что я принесла, достаточно, монсеньер? — спросила с порога настоятельница.
— Да, но вы видите, какой ужас внушают заключенной ваши сестры. Пусть они поставят то, что принесли, на этот стол и удалятся.
Монахини поставили на самый дальний от г-жи де Коэтман край стола бульон, цыпленка, хлеб, вино и стакан.
В чашке была ложка; вилка и нож лежали на том же блюде, что и цыпленок.
— Идемте, — сказала настоятельница монахиням.
Все три женщины двинулись к выходу.
Кардинал поднял палец. Настоятельница, поняв, что этот жест относится к ней, остановилась.
— Имейте в виду, я попробую все, что будет есть и пить эта женщина, — сказал он.
— Вы можете безбоязненно сделать это, монсеньер, — отвечала настоятельница.
И, сделав реверанс, она удалилась.
Узница дождалась, пока дверь закроется, и протянула иссохшую руку к столу, осматривая его жадным взглядом.
Но кардинал взял чашку бульона и отпил из нее два- три глотка; потом повернулся к изголодавшейся, которая, пожирая его глазами, тянула к нему руки, спросил:
— Вы мне сказали, что не ели два дня?
— Три, монсеньер.
— Почему вы называете меня монсеньером?
— Я слышала, как настоятельница называла вас этим титулом; да и, кроме того, вы один из сильных мира сего, раз осмеливаетесь защищать меня.
— Если вы не ели три дня, значит, надо принять все предосторожности. Возьмите эту чашку, но пейте бульон по ложечке.
— Я поступлю, как вы прикажете, монсеньер, во всем и всегда.
Она жадно взяла чашку из рук кардинала и поднесла первую ложку ко рту.
Но горло ее словно сжалось, желудок словно сузился, и бульон прошел тяжело и болезненно.
Однако мало-помалу эти ощущения ослабли, и после пятой или шестой ложки узница смогла выпить остальное прямо из чашки. Допивая, г-жа Коэтман почувствовала такую слабость, что на лбу ее выступил холодный пот и она едва не потеряла сознание.
Кардинал налил ей четверть стакана вина и, попробован сам, дал ей, сказан, что надо пить маленькими глотками.
Узница выпила вино в несколько приемов. Щеки ее окрасились лихорадочным румянцем, и она поднесла руку к груди, говоря:
— О, я выпила огонь!
— А теперь, — сказал кардинал, — отдохните минутку и поговорим.
Он подвел ее к креслу, стоящему у камина напротив его кресла, и помог усесться.
Увидев, как он проявляет заботу сиделки к этому человеческому обломку, никто не узнал бы в нем страшного прелата, грозу французского дворянства, рубившего те головы, что королевская власть даже не пыталась согнуть.
Может быть, нам возразят, что за милосердием скрывались его интересы.
Но мы ответим на это: политическая жестокость, когда она необходима, становится справедливостью.
— Я еще очень хочу есть, — сказала бедная женщина, с жадностью взглянув на стол.
— Сейчас вы поедите, — ответил кардинал. — А пока что я сдержал свое обещание: вам тепло, вы будете есть, вы получите платье, вы обретете свободу. Теперь сдержите свое.
— Что вам угодно узнать?
— Как вы познакомились с Равальяком и где впервые его увидели?
— В Париже, у меня. Я была ближайшей наперсницей госпожи Генриетгы д’Антраг. Равальяк был из Ангулема и жил там на площади герцога д’Эпернона. За ним числились два нехороших дела. Обвиненный в убийстве, Он провел год в тюрьме, затем был оправдан, но в тюрьме успел наделать долгов. Он вышел из нее, чтобы туда же вернуться.
— Вы слышали какие-нибудь разговоры о его видениях?
— Он мне сам о них рассказывал. Первое и главное было таким: однажды он, наклонившись, разжигал огонь и увидел, что виноградная лоза, которую он пытался поджечь, изменила форму, превратилась в священную трубу архангела и сама собой оказалась у его рта. Ему даже не пришлось дуть в нее: она сама протрубила священную войну, в то время как справа и слева от ее раструба проносились потоки жертв.
— Он не изучал богословие? — поинтересовался кардинал.
— Он ограничился изучением одного — единственного вопроса: о праве любого христианина убить короля, являющегося врагом папы. Когда он вышел из тюрьмы, господин д’Эпернон знал, что Равальяк — человек набожный, которому является дух Господний. Он был клерком у своего отца, ходатая по делам; отец послал его в Париж проследить за одной тяжбой. Поскольку Равальяку надо было ехать через Орлеан, господин дЭпернон дал ему рекомендательные письма к господину д’Антрагу и его дочери Генриетге, а те вручили письмо, позволившее ему остановиться в Париже у меня.
— Какое впечатление произвел он на вас, когда вы впервые его увидели? — спросил кардинал.
— Меня очень испугало его лицо. Это был высокий, сильный, крепко сколоченный человек, темно-рыжий почти до черноты. Увидев его, я подумала, что передо мной Иуда. Но, когда я прочла письмо госпожи Генриетты и узнала из него, что человек этот очень набожен, когда сама убедилась, что он весьма кроток, я больше не боялась его.
— Не от вас ли он отправился в Неаполь?
— Да, по делам герцога д’Эпернона. Он столовался там у некоего Эбера, секретаря герцога де Бирона, и тогда же в первый раз объявил, что убьет короля.
— Да, я уже знаю об этом. То же самое рассказал мне некий Латиль. Вы его знали, этого Латиля?
— О да! В ту пору, когда меня арестовали, он был доверенным пажом господина д’Эпернона. Он тоже должен знать многое.
— То, что он знает, он мне рассказал. Продолжайте.
— Я очень голодна, — пожаловалась г-жа де Коэтман.
Кардинал налил ей стакан вина и разрешил размочить в нем немного хлеба. Выпив вино и съев хлеб, она почувствовала себя бодрее.
— После возвращения из Неаполя вы его видели? — спросил кардинал.
— Кого? Равальяка? Да; и именно тогда, причем дважды — в день Вознесения и в праздник Тела Господня — он сказал мне все, то есть признался, что решил убить короля.
— А какой вид был у него, когда он делал вам это признание?
— Он плакал, говорил, что у него были сомнения, но он вынужден это сделать.
— Кто же его вынудил?
— Он узнал от господина д’Эпернона, что надо убить короля, дабы избавить королеву-мать от грозящей ей опасности.
— Какая же опасность грозила королеве-матери?
— Король хотел устроить суд над Кончини, обвинив его во взяточничестве и потребовав, чтобы его приговорили к повешению; затем устроить суд над королевой-матерью как прелюбодейкой и выслать ее во Флоренцию.
— И, услышав это признание, что вы решили?
— Поскольку Равальяк в то время понятия не имел, что королева-мать участвует в заговоре, я подумала о ней, решив все ей рассказать, ибо король, хотя я ему писала и просила аудиенции, мне не ответил. Правду сказать, в ту пору он не думал ни о чем, кроме своей любви к принцессе де Конде. Итак, я написала королеве — и не один, а три раза, — что могу дать ей важный совет, как спасти короля, и предложила представить все доказательства. Королева велела ответить, что выслушает меня через три дня. Три дня прошли; на четвертый она уехала вСен-Клу.
— Через кого она передала ответ?
— Через Вотье; он тогда был ее аптекарем.
— Что вы тогда подумали?
— Что Равальяк ошибался: королева-мать участвует в заговоре.
— И тогда?..
— Тогда, решив спасти короля во что бы то ни стало, я отправилась к иезуитам на улицу Сент-Антуан, чтобы увидеться с духовником короля.
— Как они вас встретили?
— Очень плохо.
— Увиделись вы с отцом Котоном?
— Нет, отца Котона не было. Меня принял отец главный попечитель, назвавший меня одержимой. «Предупредите, по крайней мере, духовника его величества», — сказала я ему. «Зачем?» — ответил он. «Но если убьют короля!» — воскликнула я. «Не вмешивайтесь не в свои дела». — «Берегитесь, — сказала я, — если с королем случится несчастье, я отправлюсь прямо к судьям и расскажу им о вашем отказе». — «Тогда обратитесь к самому отцу Котону». — «Где он?» — «В Фонтенбло. Но вам незачем ехать, я сам туда собираюсь».