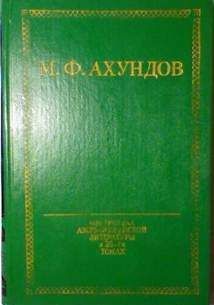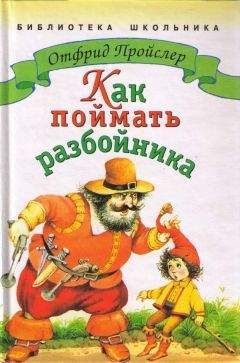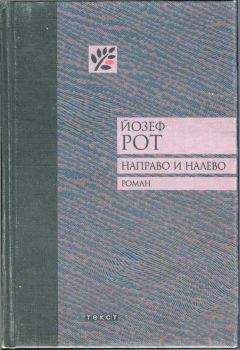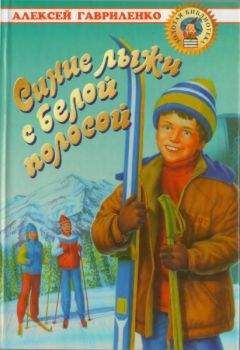Йозеф Рот - Марш Радецкого
Правда, окончательное решение относительно вмешательства егерей вынесет полиция. Вся эта история, конечно, не слишком приятна для офицера. Дойти до того, чтобы выслушивать приказания окружного комиссара! Но в конце концов это щекотливое поручение — своего рода отличие для самого молодого лейтенанта в батальоне. Кроме того, другие офицеры ведь не имели отпуска, и простое чувство товарищества требует, чтобы… и так далее…
— Слушаюсь, господин майор! — сказал Карл Йозеф и вышел.
Майора Цоглауэра ни в чем нельзя было обвинить. Он почти что упрашивал внука героя Сольферино, вместо того чтобы приказывать. К тому же у внука героя Сольферино неожиданно выдался великолепный отпуск. Карл Йозеф направлялся сейчас через двор в столовую. Судьба уготовила для него эту политическую демонстрацию. Для этого он и приехал на границу. Теперь он почти наверняка знал, что коварно-расчетливая судьба ниспослала ему отпуск, чтобы тем вернее его уничтожить. Другие сидели в столовой и приветствовали Тротта с преувеличенной радостью, происходившей скорее от их желания "узнать кое-что", чем от сердечного отношения к приехавшему, и все наперебой принялись расспрашивать, как прошел отпуск. Только капитан Вагнер сказал:
— Когда завтрашняя история будет позади, он вам все расскажет! — И вдруг все замолчали.
— Что, если меня завтра убьют? — сказал лейтенант Тротта капитану Вагнеру.
— Фу, черт! — возразил капитан. — Препротивная смерть! Препротивная вообще штука! К тому же это несчастные люди. И в конце концов, может быть, они и правы!
Что это бедные люди и что они могут быть правы, лейтенанту Тротта раньше не приходило в голову. Замечание капитана показалось ему очень метким, и он более не сомневался, что это несчастные люди. Посему он выпил две стопочки «девяностоградусной» к сказал:
— В таком случае я попросту не дам приказа стрелять! Не применю и холодного оружия. Пусть жандармерия управляется сама.
— Ты сделаешь то, что должен! Ты сам это знаешь! Нет, в данный момент Карл Йозеф этого не знал. Он пил. И очень быстро впал в состояние, в котором мог считать себя способным на что угодно: на отказ в повиновении, на выход из армии, на огромные выигрыши в азартные игры. Нет, на его пути больше не будет лежать ни один мертвец! "Оставь эту армию!" — сказал доктор Макс Демант. Довольно уж быть тряпкой! Вместо того чтобы выйти из армии, он перевелся на границу. Пора положить этому конец! Он не позволит завтра низвести себя до какого-то обер-полицейского. Не то послезавтра, пожалуй, придется регулировать движение и давать справки новоприбывшим. Что это за смешная игра в солдатики в мирное время! Верно, никогда уж не будет войны! Так и сгниешь в этом гарнизоне. Но он, лейтенант Тротта, как знать, может быть, через неделю в это время он уже будет "на юге"!
Все это он, горячась и громким голосом, выложил капитану Вагнеру. Несколько офицеров окружили его, прислушиваясь. У большинства сердце отнюдь не лежало к войне. Они были бы всем довольны, если б получали несколько больше жалованья, жили бы в менее неудобных гарнизонах и быстрей продвигались в чинах. Кое-кому лейтенант Тротта казался чуждым и был немного неприятен. Он был любимчиком начальства. Он только что вернулся из великолепной поездки. Как? А теперь он еще не хочет выступить завтра?
Лейтенант Тротта почувствовал вокруг себя враждебную тишину. И впервые, с тех пор как служил в армии, ему захотелось подразнить товарищей. Зная, что больнее всего заденет их, он сказал:
— Может быть, я попрошусь в академию генерального штаба!
Конечно, почему бы и нет? — говорили себе офицеры. Он был кавалеристом, он мог поступить и в академию! Он, безусловно, сдаст испытания и, вероятно, вне очереди будет произведен в генералы; в том возрасте, когда наш брат только еще становится капитаном и получает право на ношение шпор. Ему, следовательно, не повредит участие в завтрашней заварухе.
На следующий день он должен был выступить в ранний час. Ибо армия сама регулировала ход времени. Она хватала время и ставила его на то место, которое, по ее военным понятиям, ему подобало. Хотя противоправительственной демонстрации можно было ожидать только около полудня, лейтенант Тротта уже в восемь часов утра шагал по пыльному шоссе. Позади аккуратных, расставленных на определенном расстоянии друг от друга ружейных пирамидок, выглядевших и мирными и опасными в одно и то же время, лежали, стояли и прохаживались солдаты. Заливались жаворонки, стрекотали кузнечики, жужжали комары. На далеких полях можно было разглядеть крестьянок в пестрых платках. Они пели. И некоторые солдаты, уроженцы здешних мест, отвечали им теми же песнями. О, они хорошо знали, что им надо было бы делать, там, на полях! Но чего они дожидаются здесь? — этого они не понимали. Разве сейчас война? Разве сегодня уже надо умирать?
Поблизости находился маленький деревенский трактир. В него зашел лейтенант Тротта выпить «девяностоградусной». Низкая комната была полна народу. Лейтенант понял, что здесь сидят рабочие, которые в полдень должны собраться перед фабрикой. Все замерли, когда он вошел, звеня шпорами, устрашая своими доспехами. Он остановился на пороге. Медленно, слишком медленно орудовал хозяин бутылками и стаканами. За спиной Тротта стояло молчание, тяжелая гора тишины. Он залпом выпил стопку, чувствуя, что все ждут, покуда он удалится. А он охотно сказал бы им, что он тут ни при чем. Но у него не было сил ни сказать что-нибудь, ни тотчас же уйти. Он не хотел наводить страх и выпил несколько стопок, одну за другой. Они все еще молчали. Может быть, они обменивались какими-нибудь знаками за его спиной? Карл Йозеф не оборачивался. Наконец он оставил трактир. Ему казалось, что он пробирается вдоль кремнистых скал тишины, и сотни глаз, как мрачные копья, впиваются в его затылок.
Когда он достиг своего взвода, ему показалось необходимым скомандовать "Стройся!", хотя было еще только десять часов утра. Ему было скучно, к тому же его учили, что скука деморализует войска, ружейные же занятия поднимают их нравственность. В мгновение ока взвод построился в предусмотренные уставом две шеренги, и вот, впервые за всю его солдатскую жизнь.
Карлу Йозефу показалось, что спорые тела солдат — только мертвые части мертвых машин, которые ровно ничего не производят. Взвод замер, солдаты стояли, затаив дыхание. И лейтенанту Тротта, который только что чувствовал за своей спиной тяжелое и мрачное молчание рабочих, вдруг стало ясно, что существует два рода тишины. Может быть, подумал он, имеется множество родов тишины, так же как и множество родов шума? Когда он вошел в трактир, никто не скомандовал рабочим "Стройся!", и все же они сразу умолкли. Из их молчания струилась мрачная и беззвучная ненависть, как струится иногда из угрожающих, бесконечно молчаливых туч электрическая духота еще не разразившейся грозы.
Лейтенант Тротта вслушивался. Но от мертвого молчания его взвода ничего не исходило. Одно каменное лицо виднелось рядом с другим. Большинство солдат немного напоминало ему денщика Онуфрия. У них у всех были широкие рты с тяжелыми губами, которые едва могли сомкнуться, и узкие светлые глаза без выражения. И когда он стоял так перед взводом, несчастный лейтенант Тротта, среди голубого сияния летнего дня, щебета жаворонков, стрекота кузнечиков и жужжания комаров и мертвое молчание солдат было для него слышнее всех голосов дня, в нем всплывала уверенность, что он здесь не к месту.
"Но где же тогда мое место? — спрашивал он себя, покуда взвод ждал дальнейших команд. — Где же мое место? Ведь не среди тех, что сидят там, в трактире! Может быть, в Сиполье? Среди отцов моих отцов? Может быть, мои руки должны сжимать плуг, а не саблю?" И лейтенант продолжал держать своих солдат в неподвижном положении «смирно».
— Вольно! — скомандовал он. — Составить ружья! Разойдись!
И все стало, как прежде. За пирамидками ружей лежали солдаты. С далеких полей доносилось пение крестьянок. И солдаты отвечали им теми же песнями.
Из города прибыла жандармерия, три усиленных патруля под командой окружного комиссара Хорака. Лейтенант Тротта знал его. Силезский поляк, отличный танцор, кутила и в то же время добрый малый, он всем почему-то казался похожим на своего отца, хотя никто и не знал последнего. А этот отец служил почтальоном в Билице. Сегодня обер-комиссар был при шпаге и в черно-зеленом мундире с фиолетовыми обшлагами. Его короткие белокурые усики напоминали пшеничные колосья, а круглые розовые щеки далеко распространяли запах пудры. Он был весел, как воскресный день или как парад.
— Мне поручено, — обратился он к лейтенанту Тротта, — немедленно разогнать собрание, будьте ко всему готовы, господин лейтенант!
Он расставил своих жандармов вокруг пустыря перед фабрикой, на котором должно было состояться собрание. Лейтенант Тротта сказал: