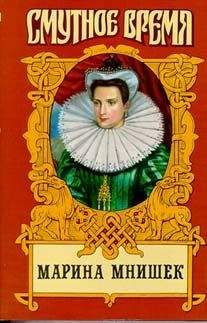Николай Коробков - Скиф
— Предположим, — говорил он, — что в каком-либо государстве есть человек, настолько превосходящий других личными своими достоинствами, что все остальные не могут быть сравниваемы с ним. Что надо делать в таком случае? Конечно, никто не скажет, что такого человека надо изгнать и удалить, как это делали прежде, когда прибегали к остракизму. Но ведь нельзя также требовать и того, чтобы он подчинился остальным гражданам, которые гораздо ниже его: это было бы похоже на то, как если бы люди, разделяя между собой власть, захотели властвовать и над самим Зевсом. Ибо такой человек ведь будет, действительно, как бы бог между людьми. Итак, остается одно — что, впрочем, вполне согласно с природою вещей — всем подчиниться такому человеку, признать его своим царем.
Теофем соглашался. У него было растерянное лицо, и он часто оглядывался в сторону своей жены, лежавшей почти в объятиях Клавдия.
Но Люций был безжалостен и заставлял эсимнета рассказывать историю возникновения Херсонеса. Теофем говорил, стараясь скрыть волнение, и, чтобы успокоиться, пил вино кубок за кубком.
Адриан между тем приказал подавать десерт. Рабы быстро вынесли столы, поставили другие, посыпали пол окрашенным суриком опилками, шафраном и порошком из слюды.
Были поданы дрозды с начинкой из изюма и орехов, гранаты, утыканные миндалями наподобие шипов, так что они походили на ежей; затем на огромном блюде внесли откормленного гуся; вокруг него располагались рыбы и птицы различных пород.
— Все это сделал мой повар из свинины, — сказал Люцию Адриан, — если хочешь, он приготовит тебе из солонины голубя, из окорока — горлицу, из воловьей ноги — курицу.
В это время вошли два ссорившихся между собой невольника с глиняными кувшинами. Удивленные дерзостью этих пьяных рабов, гости скоро, однако, увидели, что из разбитых кувшинов сыплются устрицы и ракушки; невольники ловили их на блюда и подносили к столу; повар подал дымившихся на серебряном рашпере улиток...
Но больше никто не мог уже есть.
Наконец, кудрявые мальчики принесли в вазах благоуханные мази, покрыли ими ноги гостей и, возложив на их головы свежие венки, подлили благовоний в сосуды и в лампы[113].
Появились новые вина. Их подавали в причудливых кубках из стекла, золота, серебра и разносили гостям.
К ложу Люция подошла замечательной красоты девушка, одетая как танцовщица, с венком из роз на золотистых вьющихся волосах. Она охватывала руками громадную бронзовую вазу, простой и прекрасной формы, сплошь покрытую рельефными изображениями. Тяжесть великолепного сосуда была непосильна для нее, и его поддерживали с боков две старухи, одетые Парками. Их безобразие еще больше оттеняло красоту девушки, робко прятавшей свои розовые плечи за их седыми головами.
— Я знаю, — сказал Адриан, обращаясь к Люцию, — какой ты строгий знаток и ценитель красоты. Среди моих кубков, хотя между ними немало золотых, я не нашел ни одного достойного тебя. Поэтому вместо кубка я выбрал эту вазу. Пусть она напоминает тебе о сегодняшнем пире. Вместе с ней возьми и девушку — ее теплая розовая кожа служит хорошим фоном для древней и холодной бронзы.
Подарок был слишком ценен, и Люций колебался, считая неудобным его принять.
— Отказываясь, ты нарушаешь обычаи и оскорбляешь меня, как человека, который тебя любит, и как хозяина, — сказал Адриан. — Нет, нет, не благодари. Мне гораздо приятней, чтобы эта ваза была у тебя — ты сумеешь ее оценить лучше, чем я.
Он стал наполнять чаши и посылать их своим друзьям; осушив драгоценный сосуд, они принимали его, как подарок, и передавали рабам, чтобы унести домой. Эксандр получил великолепный золотой кубок, украшенный изображением Вакха, выжимающего сок из виноградной грозди.
Помимо местных вин, казавшихся Адриану недостаточно тонкими, подавалось сетинское, цекубское, фалернское вино, вино из Албании и Соренто, знаменитое мамертинум из Мессины и трифолинум из Кампаньи[114]; появились драгоценные фассийские, хиосские вина, вина с Лесбоса, Кипра и Сикиона. Не довольствуясь этим разнообразием вкуса, подавали кубки, где вино было смешано с алоэ, розой или миртом, можжевельником, фиалкой, лавровыми листьями или нардом и миррой.
Несмотря на то, что, согласно обыкновению, вино подавалось сильно разбавленным водой[115], оно было выпито уже в таких количествах, что пир все больше приобретал характер пьяной оргии. Начали пить, «по греческому обычаю»[116] состязаясь в быстроте и в количестве выпитого вина.
Адриан, почувствовав себя дурно, побледнел и, поддерживаемый рабами, вышел из-за стола в сопровождении своего врача; через несколько минут он вернулся и снова потребовал себе жареных дроздов и сикионского вина, смешанного с полынью.
Пирующие говорили так громко, что почти заглушали двух флейтистов, аккомпанировавших певцам, которые исполняли древнюю эллинскую застольную песню, прославлявшую освободителей Афин от власти тирана.
... В ветвях мирта стану носить я свой меч боевой,
Как делали это Гармодий и Аристогитон,
Когда их рука принесла тирану смерть,
А городу Афинам свободу и равноправность[117].
На эстраде египетский акробат кувыркался между мечами, расставленными острием вверх, рискуя при каждом неловком прыжке проткнуть себе спину или живот. Пирующие бросали кости, заключая пари и все более увлекаясь азартной игрой.
В обширном, наполненном водой сосуде две небольшие миски, подвешенные наподобие весов, играли роль оракула любви; их обносили вокруг стола, и пирующие выплескивали в них остатки вина из своих кубков, стараясь, чтобы одна из мисочек погрузилась и стукнулась о стоявшую в воде бронзовую фигурку.
Теофем раздраженным голосом спорил с афинянином, утверждавшим, что боги созданы поэтами.
— Что ты мне говоришь! — восклицал эсимнет, злобно вглядываясь в подведенные глаза философа. — Если ты не веришь в богов, то как можешь ты объяснить чудеса и знамения? — а существование их общеизвестно. Все знают, что около Галикарнаса был храм, у жрицы которого перед всякой бедой, угрожавшей государству, начинала расти борода. А Геродот рассказывает о знамении, которое многим первоначально казалось непонятным. Это было, когда одна кобылица родила зайца.
Для того чтобы предохранить себя от угрожающих несчастий, не следует забывать приметы и пренебрегать указанными обычаем предосторожностями...
Безумно продолжать идти, не бросив перед собой трех камней, если хорек перебежал тебе дорогу. Заметишь черную змею — призывай Сабазия. В праздник Кружек следует окропить себя люстральной водой и весь день носить во роту лавровый лист. Если увидишь одного из толпящихся на перекрестках с чесночным венком, вымой голову и пригласи жриц очистить тебя морским луком и кровью щенка. При виде сумасшедшего плюй себе на грудь, чтобы и самому не стать таким же.
Некоторые думают, что если мышь прогрызла у тебя мешок, то достаточно просто зашить его. На самом же деле это — предзнаменование, и лучше тебе вернуться домой и принести умилостивительную жертву...
Но философ уже не слушал, увлеченный рассматриванием золотых лент на сандалиях лежавшей рядом с ним дочери дамиурга Аполлодора.
Теофем некоторое время сидел молча, уставившись перед собой. Потом вспомнил что-то, встал и, спотыкаясь, начал обходить ложа, спрашивая у пирующих:
— Где моя жена, где моя жена?
Кто-то отвел его обратно и посадил на место.
Голоса играющих в кости становилась все громче. На эстраде актер танцевал миф о Данае; на него смотрели внимательно, поощряли криками, требовали повторения.
Потом лесбиянки с подстриженными кудрявыми волосами, в косских[118] цветных прозрачных одеждах, плясали вокруг столов и, схватываемые опьяневшими гостями, оставались на ложах с пирующими; чаши опрокидывались, вино лилось по столам; музыка, хохот, женские вскрикивания, громкие голоса смешались в нестройный гул разнузданной оргии.
Одетые, как египетские альмеи, танцовщицы, кружась, разбрызгивали вокруг себя из укрепленных на голове маленьких сосудов капли мирры, нарда и мускуса, струившегося по темным волосам, заплетенным в множество косичек.
Клавдий, наклонившись над своей соседкой, гладил ее распустившиеся волосы; откинув голову, она подставляла ему открытые для поцелуя губы.
Люций громко, чтобы заглушить шум пьяных голосов, разговаривал с Никиасом, а тот, уже упившийся, цитировал стихи Мегарского поэта Феогнида:
Если б пришло тебе в мысль.
Кровопийцу — тирана низвергнуть,
В этом преступного нет,
Кары не бойся богов.
Адриан, откинувшись на подушках, храпел, широко раскрыв рот и обнимая светловолосую полуобнаженную танцовщицу; афинский философ, совершенно пьяный, высоко поднял кубок и лил из него на скатерть вино, уверяя, что делает возлияние Дионису.