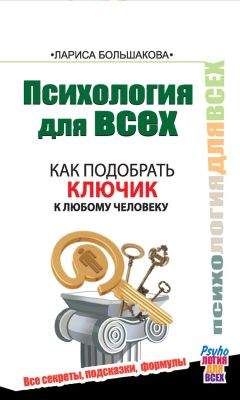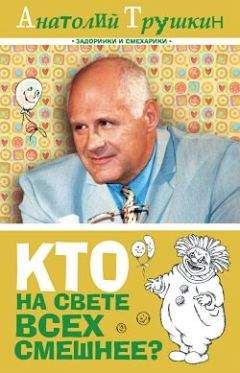Дмитрий Вересов - Генерал
– Моя родина – это места пограничья, где сошлись культура славянская и финская, а нигде, как в пограничье, не ощущается так присутствие мира иного. И теперь я понимаю, откуда в детстве нашем возникла моя Панголия – та самая страна свободы. И пусть в ней не было руин, ротонд и барочных холмов, зато росла черная ежевика и язвительная крапива, царил мрак елей, среди которых вспыхивали березы и цвели липы. Я вот все хожу по Унтер-ден-Линден[136] – разве это липы? Это мертвая идея. А наши благоухали так густо, что звук тонул в плотных волнах аромата. Ты знаешь, что именно липа – признак дворянства у нас?
– Как?
– Да так, что только северное дворянство способно было породнить с нашей почвой растения из иных краев, прежде всего липы. Вот, как увидишь липу, значит, где-то неподалеку была усадьба… Липа ведь долго растет, и новые деревца появляются лет через сто… Но я не о том. Понимаешь, детство, усадьба, дворянство – все это было связующим звеном между деревней и столицей, между народом и властью. Исчезли мы – и исчезло все, леса стали зарастать, луга залесиваться, озера превращаться в болота. Даже дороги. Разумные, простые дороги, исчезли. Впрочем, что говорить, исчезло всё. И все-таки, когда я последний раз был неподалеку от своего Паникарпова, зашел выпить воды у молодухи какой-то. Сижу, пью, не торопясь, зубы ломит, и сердце щемит, а она мне распевно так, спокойно и говорит: «Вы, видать, не здешний, столичный небось. Так вы скажите им там, в столицах-то: пусть возвращаются. – Кто – спрашиваю, возвращается, кому сказать? – А как кому? – говорит мне она, у которой родители, как пить дать, грабили окрестные именья. – Да им же, Шиповым, Нелидовым, Трухиным тоже. Тогда при них было лучше. Такая красота небесная при них была, и пруд, и цветы, и на лодках катание. Скажите ж им – пусть возвращаются. Божий день долог».
– Божий день долог… – как заклинанье, повторила Стази.
– Но человеческий короток, – Трухин встал и легко поднял ее на руки. – Нам пора. Не думаю, что стоит встречаться с хозяйкой. Не думай ни о чем плохом, не бойся и молчи.
– Молчи, скрывайся и таи и мысли, и мечты свои…
– Вот именно. Тютчев как дипломат хорошо понимал это. На днях я возвращаюсь в лагерь, но, полагаю, скоро понадоблюсь в штриковском детище. Уходи первая. И помни: нам теперь ничего не страшно.
Стази вышла под начинавшийся дождь и, забыв, что ей надо идти в штаб-квартиру, адреса которой она даже не подумала спросить у Федора, бездумно пошла по тенистой улице. Под ногами хрустели желуди, и она, как в детстве, когда мама водила ее в Ботанический сад, нагнулась, чтобы подобрать гладко-зеленоватое маленькое чудо.
И вот шли дни, а вестей не было. Только Штрик заходил все чаще, казался счастливым и оживленным. Он даже стал вести со Стази беседы, явно выходившие за рамки его служебных обязанностей, говорил о тяжелом положении на Волге, о Власове.
– Удивительно информированный человек! Конечно, подпольная информация порой работает быстрее и точней, особенно при столь неверном обращении с пленными. Дьявольщина! Неужели эти идиоты нас погубят?! – Штрик потер руки, словно озяб. – А вы, фройляйн, как относитесь к тому, что борьба против Сталина дело не только немцев, но и русских?
– Ну, судя по тому, что я здесь, вы должны сами знать ответ, – рассмеялась Стази. – А если более серьезно, то я удивляюсь немцам. Сколько людей у нас боролось против большевиков, сколько погибло, а мир только наблюдал и молчал. Больше того, из корысти, политики и экономики он заключал с этой кровавой властью – ведь не сомневались же вы, что она кровавая?! – договоры и союзы. И что вы теперь хотите? И на чьей стороне выступать нам? Англичане всегда были первыми врагами и подводили нас при первом же удобном случае, американцы уже опять договорились со Сталиным, а немцы… Простите, Вильфрид Карлович, но мне кажется, вы в нас не нуждаетесь.
– Хм…
– За что и за кого будем мы драться? И как? Вы ведь сами знаете, что наемниками русские не были никогда, – повторила она мысль Трухина.
– Ох и тяжело с вами, – подытожил Штрикфельд, давая понять, что разговора будто бы и не было. – Зато вот идет наша несравненная и незаменимая Верена! – театрально воскликнул он, увидев открывающуюся дверь. – Все, все, не буду мешать беседе двух прелестных дам!
Штрик упорхнул, и в комнате повисло тяжелое молчание.
– Вы смотрите на меня так, будто я явилась неким вестником, – наконец вздохнула Верена. – Напрасно. Я никогда не занималась передачей бильеду[137]. Я ничего не знаю, и все забыто раз и навсегда. Я пришла, чтобы сказать, что вам прибавилось обязанностей: в связи с подготовкой нового лагеря для дальнейшего отбора письма придется рассортировывать по степени лояльности рейху. – Верена устало села за крошечный чайный столик, и Стази увидела, что она действительно уже немолода. – Включите спиртовку, пожалуйста, я отчаянно хочу кофе.
Спиртовка отвратительно и громко зашипела, и под это шипенье, навсегда оставшееся для Стази шипеньем неожиданно потревоженной змеи, Верена коротко и веско произнесла:
– Я была в клинике, разговаривала с Дороти, и мой долг передать вам, что детей у вас больше быть не может. Никогда. Может быть, это как-то облегчит ваше положение. – Спиртовка погасла, и в звенящей тишине Верена светским голосом добавила, открывая сумочку. – У меня есть лишний билет на вечер Ольги Чеховой, если вам интересно.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКАРастения, произраставшие в усадьбе Паникарпово
(по каталогам фирмы «Иммер и Матер»)
Капуста: брокколи, кольраби, листовая, кудреватая, цветная сортов «Имперьял», «Ленорман», неаполитанская, азиатская
Томаты: сорт «Спаркс Эрлиана»
Смородина: сорта «Черный виноград», «Ли плодородная»
Крыжовник: сорта «Ранний желтый», «Красный триумф»
Малина: сорта «Исполинская кневетта», «Желтая антверпенская»
Земляника: сорта «Шарлаховая королева», «Самодержец», «Юнунда», «Луксус», «Абрикос»
Розы: сорта «Минвана», «Девичий румянец», «Царица Севера»
Лилии: сорта «Умбелантиум», «Царские кудри»
Кроме того, бессортовые оптом: буквицы, крокусы, нарциссы, аквилегии, лихнис («Барская спесь»), ирисы, гимерокалис, диклитра («Разбитое сердце»), дельфиниумы, петунья, львиный зев, резеда, бархатцы, астры, «ниццкие» левкои, рудбекии, далии, солидаго, лунники, бессмертники.
1 декабря 1942 года
Слава богу, организация принципиально нового русского лагеря шла туго и требовала неимоверной затраты времени, сил, средств и просто нервной энергии. Это спасало Трухина от ненужных мыслей, как о Стази, так и о перспективах их дела. Он с радостью окунулся в деятельность, мотался из Циттенхорста в Берлин, из Берлина в Мауэрвальде, из Мауэрвальде в Дабендорф, требовал, спорил, доказывал. Штрик, видя, как он загорелся, обрадовался и принялся повсюду брать его с собой. Они ездили к Ренне выбивать деньги, но тот, со своей балтийской пунктуальностью, старавшейся перещеголять пунктуальность прусскую, обещал мало. Тогда они обратились к Штауффенбергу. Трухин с любопытством ждал встречи, ибо русское сарафанное радио военнопленных уже несколько месяцев как передавало слова графа, сказанные им в отношении фюрера: «Я готов убить эту свинью». И ожидания не обманули Трухина: он увидел аристократа в лучшем смысле этого слова, человека мира, глядящего вокруг широко, ясно, хотя, может быть, и слишком доверчиво. Именно он увеличил состав лагеря с четырехсот человек до тысячи двухсот. И, пожимая им на прощание руки, Штауффенберг улыбнулся своей обаятельной, нежной, как у девушки, улыбкой:
– Nun, ich hoffe, Ihnen reichen acht Generaele, sechzig Oberoffiziere und einige hundert Unteroffiziere…[138]
Больше графа Трухин не видел, но улыбка эта долго светилась в памяти; наверное, именно с ней на губах Штауффенберг и погиб…
Они ехали со Штриком берлинскими пригородами, уже слегка оснеженными, словно в предвкушении Рождества. «Хорьх» мотало по скользкой дороге, что не мешало Штрику с упоением развивать свои идеи:
– Нет, вы только представьте, Федор Иванович. Мы добились, что русский персонал будет придан ста фронтовым дивизиям и спецчастям! Это не считая русского связного персонала при комендатурах лагерей – увы, конечно, только тех, что относятся к ведению ОКВ, – но зато и в прифронтовой полосе, и в самой Германии! На будущее вообще намечено три с половиной тысячи только офицерских должностей!
Да, это была немалая победа, их нравственные труды не пропали, но, качаясь из стороны в сторону на опасно летящей машине, Трухин думал не о сотнях пропагандистов, а о тонком, каком-то бесплотном теле – и еще больше о мятущейся, исстрадавшейся женской душе. Бедная девочка. Для нее еще есть в жизни флёр, иллюзии, вера в то, что любовь все превозмогает. На мгновение мелькнула перед ним няня, устало гладящая его стриженую голову в минуты обид и неустанно повторяющая: «И-и, касатик, терпи да люби, ведь любовь все превозмогает, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит…» [139] Он долго старался жить именно так, но в дьявольской стране это трудно. Может быть, только святым дана эта Божья кротость, но вряд ли она доступна советскому генералу. А девочка верит – пусть даже пытается обмануть судьбу, утверждая, что понимает безнадежность их положения. Ах, эти хитрые детские уловки…