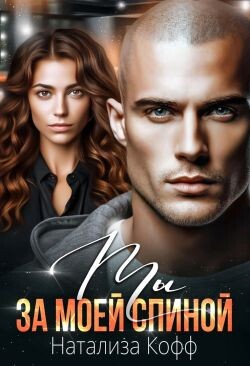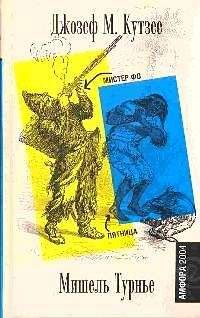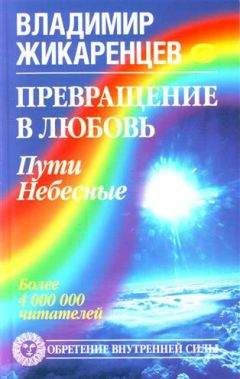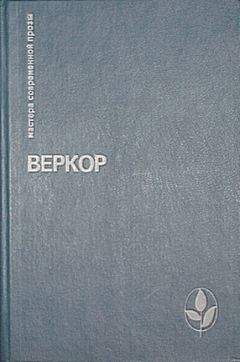Молчание Шахерезады - Суман Дефне
Ставрос по-прежнему не выпускал ладонь Панайоты из своей большой горячей руки, и сердце девушки билось как пташка; она привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть среди толпы, собравшейся на площади перед церковью, помост, где будут выступать акробаты. У стен церкви со всех сторон горели свечи, и пламя их, дрожащее на ветру, на мгновение обдало теплом ее лицо. Было видно, как священники внутри церкви обходят ряды деревянных скамеек, наружу выбивалось ароматное облако амбры и сандала, смешиваясь с пропитавшими улицы запахами жженого сахара, рахат-лукума и бубликов-гевреков.
Панайота потянула парня за руку:
– Милый мой Ставраки, давай возьмем халвы.
Ой! Какой еще «милый мой Ставраки»?! Прежде она называла его так лишь в своих снах. Может, она наконец-то смогла расслабиться рядом с ним и быть самой собой? Но скорее, все дело в выпитом вине. Ноги просились в пляс.
Ставрос молча пошел в ту сторону, куда она тянула. Он как будто мыслями не здесь, или ей кажется? Уж не сделала ли она что не так? А вдруг он посчитал ее маленьким невоспитанным ребенком, который только и бегает за халвой и конфетами? Конечно, он предпочел бы взрослую девушку, а не девчонку. Например, одну из тех, которые, подобно европейкам с Белла-Висты, уже в двенадцать лет знают, как следует садиться и вставать.
Мимо прошел шарманщик, и от его мелодии у Панайоты заныло в груди.
Продавец протянул каждому по кусочку кунжутной халвы, завернутому в бумагу.
– Как имя твое, красавица?
– Панайота.
– Поли ореа. Браво су [77], дорогая Панайота. Тебя недаром так назвали – пусть жизнь твоя будет полна света, как у Пресвятой Богородицы. Повезло тебе, парень, нашел себе невесту на славу: и лицом красавицу, и душой.
У Панайоты вверх по хребту взлетела, точно фейерверк, искра радости. Если бы не ее забота о том, чтобы не показывать Ставросу слишком уж явно свои чувства, она прямо там обняла бы его и расцеловала в щеки. До того была счастлива!
– Хронья пола [78], ребятки!
– Хронья пола, кирье!
Тут Ставрос сказал: «Пойдем на пляж», – и радость, поднимавшаяся внутри, вдруг лопнула, как шарик. Панайота задохнулась, словно ей дали под дых. Неужели они снова будут целоваться по темным углам? Она-то думала, что этим вечером они будут гулять как настоящая пара в толпе. Ей всего-то и хотелось походить с ним под ручку да поесть халвы. Но из страха, как бы он не выпустил ее ладонь из своей, она ничего не сказала. Молча они пошли к берегу, где на приколе стояла лодка отца Нико. Шарманка звучала уже где-то далеко.
Ставрос помог Панайоте забраться на каменный валун позади лодок, а следом залез сам и сел рядом. Руки им пришлось-таки расцепить. Причаливали все новые и новые лодки, полные девушек и парней. Некоторые пары даже и не смотрели в сторону многолюдных улочек – сразу скрывались в темноте пляжа. Панайота положила руки на пышную юбку своего розового платья – так, чтобы Ставрос непременно видел. Колени их снова соприкасались. Ставрос смотрел на море, на мигавшие огоньки карбидных ламп и спустя некоторое время наконец заговорил глухим, надтреснутым голосом:
– Йота му, мне нужно тебе кое-что сказать.
Панайота прикрыла глаза. Голова ее кружилась. Она глубоко вдохнула, словно хотела вобрать в себя весь этот момент целиком: ночь, луну, звезды, прохладный ветерок, пахнущий жасмином, жженым сахаром и водорослями, грохот барабана, женский смех и доносящуюся от домов музыку. Неужели Ставрос назвал ее «моя милая Панайота»? Йота му! Впервые. Когда они целовались в темноте у стен Английской больницы, он ни по имени ее никогда не называл, ни ласковых слов на ушко не нашептывал.
Открыв глаза, девушка увидела, что возлюбленный ее вытаскивает из кармана жилета табак. Вот сейчас он скрутит сигарету, закурит и свободной рукой непременно возьмет ее за руку. Она плотнее прижалась своим коленом к его.
Пристала еще одна лодка со светящимся фонарем на носу. Тут же с нее соскочил пышноусый мужчина средних лет, подтащил лодку к берегу и затем одной за другой помог спуститься девушкам, поддерживая их за руки. Нескольких он попытался было обнять, а те в шутку сделали вид, что отбиваются. Лица у всех были раскрашенные, а шляпки – самые что ни на есть щегольские. Узенькие платья сидели на тонких талиях как влитые, а груди того и гляди выскочат из украшенных оборками краев, которые мало что закрывали. Вот об этих девушках и говорила Эльпиника. Рассказывали, что их собирали по разным районам и даже привозили из Айдына и Манисы, – всё для увеселения греческих и английских военных. Обычно они разъезжали в автомобилях по набережной, но этим вечером, видимо, захотели, как и все, побывать на ярмарке. Панайота не могла и вообразить, чтобы эти развратницы молились Святому Духу. Интересно, а священники их в церковь-то пускают?
Ставрос ждал, пока женщины разойдутся по улочкам. Сигарету свою он уже наполовину скурил, но руки Панайоты, лежавшей на коленях в ожидании, так и не коснулся.
– Никому, кроме тебя, я этого не говорил и не скажу.
Сердце Панайоты снова затрепетало. Неужели наступил наконец тот момент, о котором она мечтала по ночам, ворочаясь в кровати, как запутавшаяся в сетях рыба? Так значит, Ставрос тоже ее любит. А причиной скуки и безразличия, появлявшихся на его лице, когда они встречались на городской площади после бурных ночных объятий и поцелуев у больничной стены, было не что иное, как обычное стеснение!
У нее участилось дыхание. Она облизнула губы, потерла ладошки одну о другую, коснулась розовых ленточек, которыми мать аккуратно перевязала ее волосы. И до того замечталась, что, услышав слова Ставроса, чуть не свалилась с валуна, на котором они сидели бок о бок. И свалилась бы, не успей Ставрос схватить ее за руку; он подтянул ее к себе и обнял за талию.
От удовольствия, какое бывает, когда пьешь сладкий теплый шербет, Панайота едва слышно простонала. Голова ее уже клонилась к плечу Ставроса, когда наконец до нее дошел смысл его слов.
– Что? Что ты сделал?
Уверенный и спокойный, как раскинувшееся перед ними темное море, Ставрос повторил:
– Я записался в армию добровольцем.
Издалека донесся голос шарманки. Панайоту затрясло. Часы во дворе церкви пробили девять.
– Замерзла? Вот, если хочешь, надень мой пиджак.
Ставрос снял пиджак и набросил Панайоте на плечи, поверх розовых рюшей платья.
Он недоумевал, почему Панайота не обрадовалась этой новости, почему не восхитилась, почему не говорит, как она им гордится. Он снова обнял ее за талию и попытался притянуть поближе. Но девушка, такая же недвижимая, как валун под ними, сидела опустив голову и внимательно рассматривала свои ботиночки с белыми шнурками.
Как только к ней вернулся дар речи, она спросила полушепотом:
– Когда?
– Завтра отправляемся. Сначала в Манису.
Он провел рукой по смазанным мускусным маслом волосам, подергал подтяжки, черными полосами пересекавшие рубашку, и, не выдержав давящего молчания, произнес:
– Скоро, макари, мы возьмем Стамбул. А потом и вся Фракия станет нашей. Мы дадим нашему народу свободу.
Но Панайота его словно не слышала.
– Так ты ведь по возрасту не проходишь.
Ставрос гордо улыбнулся:
– А я сказал, что мне восемнадцать уже в конце лета будет. Я уже два месяца хожу на подготовку дважды в день. Офицер, приезжавший с проверкой посмотреть на добровольцев, остался очень мной доволен.
Он повернулся и заглянул Панайоте в глаза. Его вечно сведенные брови разошлись, а лицо, лишившись обычного сурового выражения, сделалось как у ребенка. Он потянулся было поцеловать девушку в щеку, но та выскользнула из его объятий, как рыбка, и спрыгнула на песок.
– О чем ты говоришь, вре Ставраки?! Разве мало Смирны с Айдыном? Мы же уже и так свободны. Чего еще хочет этот Венизелос?