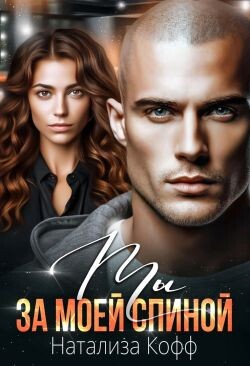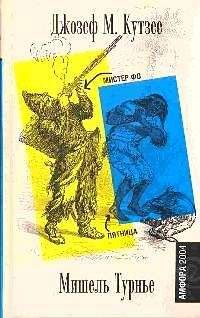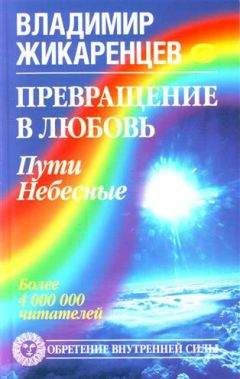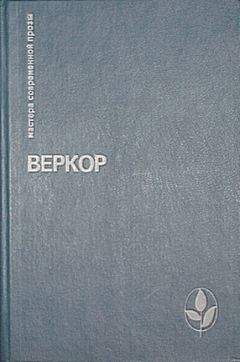Молчание Шахерезады - Суман Дефне
До чего же я нуждалась в его любви! И в ту же ночь я впервые легла с ним в постель, на то место, которое прежде занимала его жена.
Заточение в башне сыграло призраку только на руку. Теперь, вселившись в Сюмбюль, он болтал без умолку. Ничто не мешало ему рассказывать свою историю, пока я наполняла сосуды водой, которую ведрами носила снизу, и собирала раскиданные по полу пластинки. Я делала вид, что не слушаю, а не то этот призрак решит, будто его история мне интересна, и полностью завладеет Сюмбюль. Вы ведь и сами, наверное, знаете: стоит обратить на что-то внимание, показать заинтересованность, и это что-то тут же начинает ветвиться и цвести. Но призрака не обмануть: как только эта европейка, прятавшаяся в теле Сюмбюль, слышала звук моих шагов на лестнице, ее визгливый голос тут же набирал силу. Так я и узнала продолжение истории, от которой волосы вставали дыбом.
«Я дала ей пощечину. Как она долбила кулаками в дверь, как она кричала и ругалась самыми последними словами! Мало того что гулящая, так еще и сквернословит, как простолюдинка. Недаром говорят: яблочко от яблони недалеко падает. Вся в отца! Пусть теперь посидит в летнюю жару в этой стеклянной клетке – будет ей в наказание».
Вдруг голос делался тише, и призрак спрашивал, чуть ли не прощения просил:
«А как иначе я могла поступить, а? Что еще мне было делать? Она вынудила меня. Она сама заварила эту кашу. У меня не было другого выхода».
Потом, снова разозлившись, сжимал мягкие руки Сюмбюль в кулаки, заставляя ее впиваться ногтями в ладони.
«Три месяца я ухаживала за ней, аки за принцессой! А она все раздувалась и раздувалась, как шарик. Я ее и лимонадом поила, и опахалом из павлиньих крыльев обмахивала, как будто она султанша какая. Что еще я должна была сделать? Да если б не я, она бы со своим ублюдком пошла мужиков ублажать. Я спасла ее, спасла! Спасла жизнь и ей, и вот этой!» – взмах рукой в мою сторону, и голос умолкал.
Несколько минут Сюмбюль сидела не дыша, с остекленевшим взглядом, прежде чем прийти в себя. Уткнувшись мне в колени лицом, которое с каждым днем становилось все более прозрачным из-за постоянных мучений, она плакала. По правде говоря, даже когда тело и разум снова принадлежали ей, Сюмбюль уже не была похожа на себя прежнюю. Как у той беременной девушки из чертовой истории, вокруг глаз у нее залегли глубокие черные тени, а в самих глазах светилось отчаяние, как у львенка, угодившего в западню.
Однако доктор, который каждое утро в девять часов поднимался в башню, не верил в правдивость истории, излагаемой призраком. Этот милый старичок с острой бородкой, собственно, и в существование призрака не верил. Он светил фонариком в глаза Сюмбюль, слушал сердце, мерил пульс и записывал все ровным почерком в тетрадь в кожаном переплете. При этом его ни капли не интересовало, умерла ли та беременная девушка, а если нет, что стало с малышом. Он считал, что и роды, и кровь, и повитуха – это лишь символы, говорившие о травмах, спрятанных в подсознании Сюмбюль.
К тому же он узнал, что в детстве Сюмбюль пришлось бежать из родного дома в Филибе [70], а когда болгары стали изгонять турок из города, пешком идти до самой Коньи [71]. Потом он даже выпытал у Хильми Рахми, что и мать-то Сюмбюль сошла с ума и нашла свой конец в горах. Когда до Коньи им оставалось уже немного, женщина оставила спящую дочку на постоялом дворе, сама же ушла и больше не вернулась. За Сюмбюль присматривала одна семья родом из Скопье, вместе с которой они шли из Филибе: те люди довели ее до Коньи и отдали жившим там дальним родственникам. А тело матери спустя год принесли к дверям их дома жандармы. Как сказали, долгие месяцы она жила в горах и стала дикой, как зверь. Любого, кто пытался приблизиться, кусала. Будто бы несколько мужчин связали ее однажды и хотели снасильничать, но она вцепилась одному из них зубами в шею и разорвала аорту. Когда Сюмбюль увидела мать в гусульхане, комнате для омовения, она не узнала ее. Полные груди опустели, круглый живот впал, волосы клочками прилипли к голове. Но главной причиной, почему на тот момент уже двенадцатилетняя девочка не узнала родную мать, был рот. Белые губы все сморщились и провалились внутрь – оказывается, местные, из страха, что укусит, повырывали ей все зубы.
Доктор с изумлением и нескрываемой радостью слушал все, что Хильми Рахми рассказывал о прошлом жены, и быстро-быстро записывал в свою тетрадь. Слушая Сюмбюль в башне – то есть не ее, а призрака, который повторял свою обычную историю, – он просматривал записи, кивал и бормотал что-то вроде: «Aber ja, natürlich, sehr interessant» [72]. Нет, нисколько не волновали его ни судьба юной девушки на сносях, ни судьба ее ребенка. Да что там, я уверена, и судьба самой Сюмбюль, говорившей и говорившей, будто в приступе падучей, ничуть его не заботила.
А я… Принося узнице башни поднос с завтраком, помогая мыться в хаммаме, я теперь не смела смотреть ей в глаза. А все потому, что каждую ночь, едва сгущалась темнота, я покидала свою кровать и, не в силах совладать с собой, точно лунатик, шла в спальню в конце коридора, раздвигала белый полог и проскальзывала на благоухающие лавандой простыни в объятия ее опечаленного мужа.
В свете луны, сочившемся сквозь ставни, шелковая ночная рубашка, касающаяся моего обнаженного тела, жгла огнем. Связь между нами стара как мир. Я снова обнимала его за талию, как в ту проклятую ночь. Мы снова скакали верхом на коне, несущемся во весь опор. Только он один слышал мой голос.
А днем жизнь текла по-прежнему, словно и не было этих ночей.
Сюмбюль просила у меня бельевую веревку.
Не призрак, нет, – сама Сюмбюль. «Прошу тебя, Шахерезада, принеси мне из сарая толстую веревку», – молила она.
Но я продолжала заниматься своими делами, как будто не слыша ее. Затем голос Сюмбюль перенастраивался, как радио, на другую частоту. И снова та же история, с самого начала.
«Le jour оù la fille est descendue du bateau… В день, когда дочка сошла с корабля на берег, в порту стояло так много судов, что сквозь лес мачт не проглядывала даже синева воды…»
Любовь из легких прикосновений
– Эй, вре ребята, поосторожнее, мы же перевернемся. И так вон как качает, – крикнул с острого носа лодки Минас. Он сидел на коврике-килиме, в окружении корзин и мешков, в обнимку с Адрианой, которая больше походила на его старшую сестру.
– Помолчи лучше, малака! Вместо того чтобы рассиживать там и указывать, взял бы да попробовал немного погрести, а мы перекурим пока.
Сидевшие на веслах Ставрос и Панделис подустали. Но Минас пропустил их слова мимо ушей. Он взял с собой мандолину и весь путь играл на ней, а Адриана пела. Нико, пристроившийся на дне лодки возле сетей, проворчал:
– Семь человек на крошечном суденышке – еще бы ему не перевернуться!
Незадолго до того из-за горы Ниф взошел огненный шар луны, и Эльпиника – они с Панайотой сидели рядышком на корме точно принцессы – воскликнула удивленно:
– Вы только посмотрите, до чего ж красивый закат!
Парни, услышав это, принялись подшучивать над ней, и бедняжка от стыда стала такого же цвета, что и поднимавшаяся луна.
– Скажи-ка, Эльпиника му, это что же получается, солнце и встает за теми горами, и садится в том же месте? И чему вас только учат в этом вашем Омирионе? Рассказывают о феях с горы Ниф?
Эльпиника, смотри, с этой стороны еще одно солнце. Оно тоже здесь же и садится, ха-ха-ха!
Хватит уже! Какие вы все противные! Чтобы я еще хоть раз с вами куда-то вечером отправилась? Да ни за что!
– А что, уже вечер? И луна, значит, есть? А я вот два солнца вижу, ха-ха-ха!
Панайота едва заметно сжала руку подруги. Эльпиника была светловолосой и замечательно красивой; наверное, она была похожа на фей-пери с горы Ниф, о которых рассказывалось в легендах, и стоило ей только ляпнуть какую-то глупость, все начинали хохотать. Из всего квартала только они с Эльпиникой учились в лицее Омирион, и уже только это было неиссякаемым поводом для шуток. В Омирион ходили девочки из богатых семей, живших в особняках где-нибудь на Белла-Висте, в Корделио или Пунте. А ребята из их квартала учились в школе при церкви и при каждом удобном случае цеплялись к Эльпинике с Панайотой, дразня.