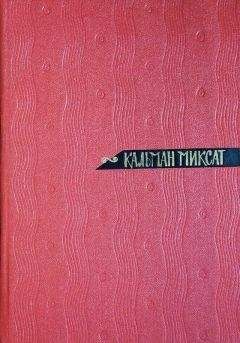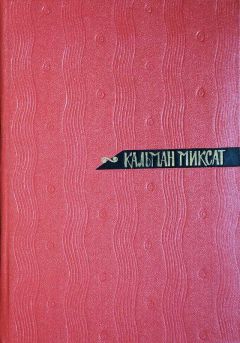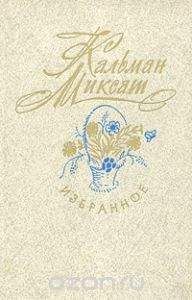Бенито Гальдос - Двор Карла IV. Сарагоса
Не бойся, тебя не арестуют. Скорее арестуют короля.
Произошло нечто странное — Исидоро прочитал письмо про себя. Его запекшиеся, побелевшие губы дрожали; как бы не веря своим глазам, он снова и снова просматривал письмо, а публика меж тем, не понимая, почему он молчит, выражала свое недоуменно глухим ропотом. Но вот Исидоро поднял глаза, провел рукой по лбу: казалось, он пробуждается от сна; несколько бессвязных угроз сорвалось с его уст; он закрыл глаза, словно пытаясь успокоиться и продолжать; сделал два-три шага вперед, к публике, затем попятился. Шум в зале нарастал: суфлер громко подсказывал, повторял следующий стих, наконец Исидоро вздрогнул, глаза его засверкали; потрясая кулаками и топая, он продекламировал грозные стихи:
Гляди, вот здесь письмо, а вот и диадема.
Их я хочу обрызгать кровью, утопить
в крови той гнусной, черной, подлой,
которую всем сердцем ненавижу.
Поймешь ли ты. Какое наслажденье
на труп соперника, недвижный, охладелый,
на труп тот, кто свет очей моих похитил,
швырнуть и труп изменницы коварной?
Наверно, никогда еще на испанской сцене эти стихи не звучали с такой огненной страстью, с такой устрашающей мощью. Все забыли, что находятся в театре, — все видели только страдающего человека, неистового мавра Отелло, который потрясал публику своими гневными воплями. Оглушительные аплодисменты громом прокатились по залу, Исидоро в своей игре достиг невиданного совершенства.
Но вдруг черты мавра исказились, лицо стало пепельно-серым; прижав руки к груди и внезапно перейдя от угрожающего тона к патетически скорбному, он произнес:
Коль близится к нам буря
ее приход нам ветры возвещают;
и молния, сверкая, упреждает,
что грянет страшный гром; и лев рычаньем
дает нам знать, что он недалеко.
Но женщина с приветливой улыбкой
и кротким взглядом сердце нам пронзает,
подобно злобному, коварному убийце.
Новый взрыв аплодисментов. Женщины плакали, кое-кто из мужчин, несмотря на все старания держаться спокойно, тоже утирал слезы. Публика была растрогана, взволнована, потрясена; в эту минуту собственные чувства каждого из зрителей словно бы замерли, заглохли, каждый жил чувствами и страстями Отелло.
Спектакль продолжался: Отелло ушел, декорация переменилась — на сцене театра теперь была спальня Эдельмиры. Тем временем все меня расспрашивали, отчего Исидоро так смутился и встревожился, а я не знал, что ответить.
Вдруг мы хватились, что Исидоро нет за кулисами, и бросились его искать; но его нигде не было видно, и никто не мог сказать, куда он скрылся. Эдельмира произнесла свой монолог с большим чувством: она бросала на Маньяру кокетливо-самодовольные взгляды, точно говорила: «Не правда ли, я чудесно играю!», а счастливый любовник в упоении не сводил с нее глаз и как будто отвечал: «До чего ты хороша!»
Лесбия в самом деле была обворожительна — распущенные волосы ниспадали на плечи, легкое белое платье обрисовывало небрежными складками стройный стан. Вошла Эрмансия, верная ее подруга, и Эдельмира рассказала о своих печальных предчувствиях. Как нежно и меланхолично звучал ее голос, когда она говорила, что боится смерти!
Как привлекательна была она в страдании! Хоть я уже много раз видел эту трагедию, причем видел из-за кулис, отчего пропадала театральная иллюзия, но в тот вечер я ощущал необъяснимый ужас и судьба несчастной, невинной Эдельмиры трогала меня до глубины души.
Желая немного рассеяться, забыть о тревоге, стеснившей грудь, супруга Отелло взяла арфу и запела песню Лауры про иву — трогательную жалобу, в которой, кажется, слышен голос самой смерти. Эдельмира, обучавшаяся пению у Мануэля Гарсиа, исполнила эту песню очень поэтично и нежно. Голос ее проникал прямо в сердце, у меня то и дело мороз пробегал по коже, как от прикосновения холодного стального лезвия.
Песня смолкла, и за сценой загремел гром. Публика была так взволнована, что даже не хлопала. Эдельмира легла, стало очень тихо. Появился Отелло. Во время короткой немой сцены в зале царило полное безмолвие. Мне чудилось, я слышу стук многих сердец, но нет, то громко стучало мое собственное сердце. Меня вдруг охватило лихорадочное беспокойство, я стал оглядываться, искать кого-нибудь, с кем бы я мог поделиться своими опасениями; рядом с собой я увидел только бледное лицо моей хозяйки. С вымученной улыбкой она сказала:
— Отлично играет Лесбия! Признаю себя побежденной, она играет в тысячу раз лучше, чем я. Но сейчас Исидоро тоже себя покажет. Нынче он в ударе, как никогда.
Я посмотрел на Майкеса; стоя у ложа венецианки, он уже произносил первые стихи этой сцены. Лицо его дышало спокойной задумчивостью. Когда он приподнял полог и ровным голосом сказал:
— Нет, нет, ты не умрешь… О как прекрасно
в зловещем свете факелов лицо твое!
по залу пронесся смутный гул; женщины плакали, мужчины же старались сохранить невозмутимый вид, но не всем это удавалось. Вот Отелло склонился над Эдельмирой и, охваченный внезапной нежностью, произнес:
О, как спокойно дышит ее грудь!
Не знаю, тайная какая сила
меня неодолимо к ней влечет.
Эдельмира пробудилась. Отелло вначале не открывал своего намерения, а когда он его сообщил Эдельмире, та в ужасе и смятении стала клясться, что невинна. Но ничто не могло переубедить грозного мавра, выражение его лица вдруг страшно изменилось; неистово жестикулируя, он вскричал:
Гляди! Узнала ты? Меня узнала ты?
Дрожь объяла зрителей. Какие-то дамы упали в обморок, послышались робкие слова: «Пощади, пощади Эдельмиру! Она невинна! — Во всем виноват негодяй Песаро! — Приведите Песаро!»
Исидоро достал письмо и, вне себя от ярости, протянул его Лесбии; та испустила пронзительный вопль вместо реплики, которую ей полагалось произнести в эту минуту. Отелло придвинулся к ней совсем близко, Эдельмира отшатнулась, словно собираясь соскочить с кровати. Положенные по роли стихи, видимо, выскочили у нее из головы; но через минуту она немного оправилась от смятения, и диалог продолжался.
Эдельмира. Ты что-то хочешь мне сказать?
Отелло. О да, готовься.
Эдельмира. К чему готовиться?
Отелло. О том кинжал мой скажет.
С этими словами он обнажил кинжал, и все увидели, что вместо посеребренного деревянного лезвия в его руке сверкнуло настоящее стальное. За кулисами поднялся переполох, Эдельмира поспешно соскочила на пол и побежала по сцене, крича, как безумная: «Спасите, спасите! Он меня зарежет! Убивают!»
Не могу вам описать, что тут началось на сцене и в зале. Когда Исидоро, гонясь за Лесбией, схватил ее своей могучей рукой, зрители из первого ряда повскакали с мест и стали взбираться на подмостки. В то же мгновение меня словно пружиной подтолкнуло — я кинулся к Лесбии и крепко обхватил ее. Кинжал Исидоро сверкнул над моей головой! Однако неожиданное появление новой жертвы заставило мавра очнуться от ослепляющего бешенства; с его глаз спала пелена; он содрогнулся и, отшвырнув кинжал, с огромным усилием произнес два-три стиха, сжимая меня в объятиях, словно я был Эдельмирой. А она, выскользнув из моих рук, упала без сознания и вмиг была окружена толпой спешивших на помощь. Все это произошло в несколько секунд.
XXVI
Сцена заполнилась людьми. Лесбию сразу подняли с пола и стали усердно приводить в чувство. Вскоре она очнулась, открыла глаза и что-то сказала. На ней не было ни единой царапины, все обошлось только испугом. С лица бедняжки, правда, долго не сходила необычная бледность и выражение тревоги, но среди окружающих я заметил лицо еще более бледное и встревоженное — лицо Пепиты.
У Исидоро был вид удрученный и пристыженный. Прошло с полчаса, и когда окончательно выяснилось, что ничего страшного нет, завязался оживленный разговор о происшествии. Многие судили о нем с точки зрения театрального искусства — Майкес, этот гениальный актер, говорили они, пришел в состояние такого сильного артистического возбуждения, что совершенно слился с изображаемым персонажем.
— Я нахожу, что на этом пути нельзя достигнуть совершенства в игре, — сказал Моратин, — скорее он приведет нас к порче вкуса, и в созданиях творческой фантазии вместо пристойности и изящества воцарится пошлая проза.
— Не игра, а черт знает что! — сказал Арриаса, бывший заклятым врагом Исидоро. — С тех пор как этот господин ввел у нас французскую манеру игры, искусство декламации погибло.
— Я никогда еще не видал Майкеса в состоянии такого возбуждения и неистовства, — заметил один молодой человек, присоединяясь к кружку. — Мне кажется, на сцене произошло что-то, не предусмотренное в пьесе.