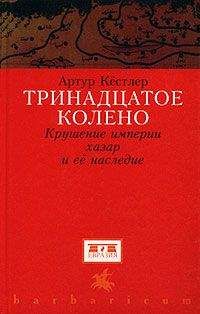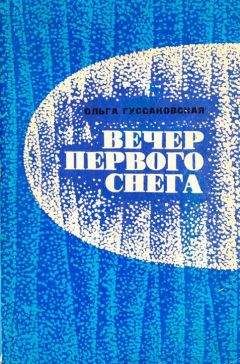Аркадий Макаров - На той стороне
– Вот оно, сбывается пророчество! – отец вздымал кулаки к небу. – Что вы хотите, маловеры!
Мало помалу возле него стала сколачиваться небольшая группа прихожан, считавших себя последователями как Нового, так и Ветхого Заветов, хотя всё это по церковным канонам и считалось ересью, но отец Рафаил, то ли по своей дряхлости и обволакивающей его слепоте, то ли по философскому складу мышления, к моему отцу относился снисходительно, и всегда говорил, что всякая мысль от Бога.
Как и в нынешнее невразумительное время, тогда тоже, наша церковь была единственной в районе, и к нам в дом, особенно перед праздниками, набивались люди послушать отцовские толкования Библии, пощупать руками эту сокровенную книгу, которую они трогали почему-то с опаской и какой-то тайной страстью. Вот оно, это писание, высеченное пальцем самого Всевышнего на каменных плитах и переложенное на бумажные страницы! Видящий – да зрит!
В осенние и зимние праздники ночи стояли длинные и ненастные, такие же длинные и грозные были слова на пожелтевших страницах, вынесенной отцом из сумасшедшего дома книги красного комиссара, загубившего за свою жизнь в зените не одну христианскую душу.
Я и сам стал потихоньку проникаться библейским языком, этим мировым творением человеческого разума, ужасался его невероятной образности, слова западали в душу, как каменья и ворочались там, в бурливой реке юношеского сознания.
Мне приходилось спорить с отцом, что Библия, в понятии Ветхого Завета, книга далеко не христианская, что христианство возникло в Иудее на несколько тысячелетий позже событий описываемых в Библии, что Иисус Христос был первым мировым революционером и коммунистом, искоренявшим различия людей по национальности и богатству, что первые общины христиан были похожи на наши колхозы…
Ах, как взвинчивался мой родитель, услышав из уст своего сына богопротивные слова.
– Иудея, говоришь? Я тебе такую Иудею устрою, что кровавыми слезами утираться будешь! Кто коммунист? Христос коммунист? Да я тебя, сукина сына, запорю насмерть! – хватался за ремень из бычьей кожи, на котором он всегда наводил бритву.
Но я предусмотрительно исчезал из дома, и приходил только к вечеру, когда отцовский гнев смягчался.
– Коммунисты – Иуды, – они храмы разорили, – говорил он уже миролюбиво, забыв, что за это может и не так легко отделаться, как за вражеское радио.
Отец был мужик отходчивый, и угрозы свои скоро забывал, и сам иногда начинал споры со мной о трактовке сакраментального текста, с такими же последствиями.
– Ишь ты, поперёк батьки в петлю лезешь!
– Не поперёк батьки в петлю, – поправлял я его, опасливо посматривая на дверь, – а поперёд батьки в пекло…
– Яйца кур учат. Колхозы… – не унимался он. – А ты знаешь, что эти колхозы твоего деда за Можай загнали. Я тебя, умника, поучу, поучу! – снова ощупью за переборку, где на гвозде вот только что висел его знаменитый ремень из бычьей кожи с рубчатой бляхой. – Куда ремень подевался? Я вот щас возьму палку, да и пыль из тебя повыбиваю, как из мешка дырявого! Недаром в Библии написано: «Сокрушай рёбра сыну своему, пока он молод, и благо тебе будет в старости!»
До самого основания, до самого корня души поразила отца Книга Великого Пессимиста Екклесиаста.
Начав её читать вслух глухой осенней ночью, он тут же смолкал, и только качал своей начинающей седеть головой, иногда приговаривая:
– Всё пустота! Всё ловля ветра! Ах, мать твою так! Нет ничего нового в мире! Всё возвращается на круги своя, – одно томление духа… Ах, мать твою так! Жизнь моя, иль ты приснилась мне?! – это он уже машинально повторял услышанного от меня Есенина, тоже печальника.
«Песню песней» Соломона он почитал охальной, и со мной разговоры о ней не заводил.
– Очёсы дьявола там, сынок! Силён Сатана, коль и сюда добрался!
9
А время шло своим чередом, подбирая, как яблоки, дни, брошенные нам под ноги года.
Отец привык к церковному обиходу, почти не матерился. Вечернюю зарю и утреннюю зарю провожал молитвами.
Уже совсем слепого батюшку Рафаила забрали в город родственники, и вскоре осиротевший наш храм принял на руки молодой, со шкиперской бородкой и красным обветренным лицом моряка, отец Александр.
На службе в толстых пальцах его старинный обложенный серебряными пластинами церковный крест прятался по самой перекладине. Говорили, что он бывший капитан подводной лодки, которая затонула у берегов Шпицбергена, а ему с двумя моряками удалось чудом спастись, остальных поглотила ледяная мгла. Якобы после этого случая он был разжалован в матросы, уволен с флота и осуждён. Но как-то так получилось, что, отсидев положенное, он сумел окончить духовную семинарию, смущая наставников своих. В его виде было много от мира, но духовные отцы сумели направить его силу и ещё неистраченную молодость в горние сферы и в нашу церковную обитель.
После патриархального, благостного отца Рафаила, батюшку Александра боголюбивые старушки по первости не принимали, гневались, говорили, что будем писать самому патриарху, чтобы прислали к ним в приход тоже боголюбивого старца. Неужели праведники перевелись в России?
Но патриарх, конечно, этих слов не услышал, а может, старушки запамятовали писать иерарху, постепенно привыкли к зычному голосу бывшего моряка-подводника.
Мой родитель к новому батюшке отнёсся с недоверием, подозревая, что это КГБ направило его к нам работать ловцом человеческих душ. Мол, вышел негласный указ всем церковнослужителям вступать в партию и каждое слово исповеди брать на веру и отмечать в своём кондуите.
Зря, я думаю, отец не доверял священнику, а в отношении КГБ хватил лишку. Батюшка как батюшка, правда, непривычно молод и широк в плечах. А где это написано, что священник должен всенепременно быть хилым и благостным? Вон, послушник Ослябя, какой богатырь был!
Примерно, таким образом, я успокаивал своего, начинавшего возмущаться, родителя.
– Какой Ослябя? Что ты мелешь и меня с толку сбиваешь? Опять умничаешь?
На этот счёт с батяней было спорить бесполезно.
Скорее всего, отец Александр, наверное, пережив свою смерть, в стрессовом состоянии увидел лицо Бога и поклялся навечно служить ему – вот и всё.
Отец Александр и в судьбе моего родителя тоже сыграл свою, я бы сказал, сокрушительную роль.
Услышав сектантские рассуждения своего старосты о Боге, он однажды, откупорив бутылку Кагора, позвал его за собой в сторожку, поставил два стакана, размашисто перекрестил их и наполнил густой тёмно-красной влагой, от вида которой перекрестился и своенравный староста:
– Господи, помилуй и спаси раба твоего Василия!
– Пей! – мрачно сказал отец Александр и, сжав горстью, как снегиря, красногрудый стакан, опрокинул его в себя. Снегирь юркнул в густые заросли, и обескрыленный стакан остался густо розоветь стеклом на клеточной клеёнке стола церковной сторожки.
Отец выпил, пошевелил губами сладкую терпкую пустоту и пододвинул свой опорожнённый стакан к бутылке, в которой ещё проживала пара снегирей в ожидании выпорхнуть.
– Кровь твоя, Господи, как водица сладкая! Сколько её надо выпить, чтоб в голову швырнуло?
– Не сори словами, брат Василий, а то языком твоим мести раскалённое железо придётся. Помнишь, как написано? «Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог…» А ты верующим простосердным людям суесловишь. Вот опять, сказывали, ты им притчи Соломоновы растолковывал по бытовщине своей непотребной. Зачем народ пугаешь? «Страх есть не что иное, как лишение помощи рассудка», – вот как сказано у Соломона. «Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучение. Свищущий ли ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстротекущей воды, или сильный треск низвергающихся камней, или незримое беганье скачущих животных, иди голос ревущих свирепейших зверей, или отдающее из горных углублений эхо, – всё это, ужасая их, подвергало в расслабление. Ибо весь мир был освещаем ясным светом, и занимался беспрепятственно делами: а под ними одними была распростёрта тяжёлая ночь, образ тьмы, умевший некогда объять их, но сами для себя они были тягостнее тьмы!» – прочитал отец Александр, бывший моряк и каторжник почти дословно отцу одну из премудростей Соломона о власти страха над усомнившимися в твёрдости длани Господней.
– Каша у тебя в голове, дорогой староста, несъедобна и горчит. Выблюй её и умой лицо своё. Ты зачем, читая Книгу пророка Амоса, растолковывал её на наш грядущий день? – Отец Александр отодвинул ящик под столешницей, вытащил глыбастую, изукрашенную витой кириллицей старинную книгу, ещё дореволюционного издания, раскрыл её, как раскрывают по весне оконные створки, чтобы впустить в душную избу лопотанье первых листочков и птичью разноголосицу.
– Слушай, и не говори больше, что я тебя не предупреждал. – Отец Александр вытер пятернёй влажные ещё губы и прочитал: «Господь возгремит с Сиона и даст глас из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». Слышишь? – обратился от снова к отцу, – КАРМИЛА, а не Кремля, как ты проповедуешь! – И опять продолжил по Книге – Так говорит Господь: «За три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрёт он чертоги Венарада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и державшего Скипетр – из дома Еронова, и пойдёт народ Арамейский в плен в Кир», – говорит Господь. Причём здесь Советский Союз! Прищеми язык, Василий! В Книге говорится о временах далеко ушедших, а ты народ пугаешь, что сокрушится скипетр Державы и её поглотит молох, что в переднем углу вместо божницы будет стоять Телец, и люди снова будут поклоняться Ваал-Зебулу. Ты это говорил людям? Молчи! Допей вино и закуси своим языком!