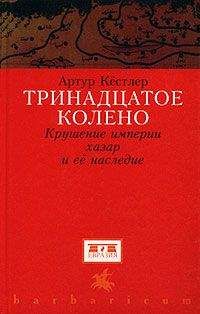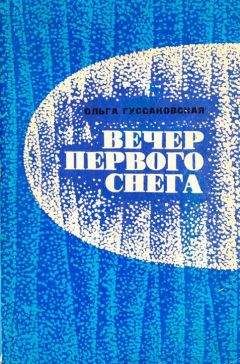Аркадий Макаров - На той стороне

Обзор книги Аркадий Макаров - На той стороне
Аркадий Макаров
На той стороне
Русская сага, или Повествования, вызванные светом непогашенной лампы
Дочери Тане
Перевозчик, водогрёбщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
На ту сторону домой…
Вместо пролога
Ниоткуда, как мышиный шорох, вдруг возникла передо мной жизнь моего родителя, истинно русского человека, одна из ничем не примечательных пылинок в песочных часах, провалившаяся в чёрную бездну.
Возникла и тут же канула, как сорвавшаяся с ветки капля тихого предвечернего дождя.
Мой отец не сделал ничего примечательного в жизни: не открыл предел числового ряда, не изменял хода истории. Был – и нет. Как говорится, – «И сказок о них не расскажут, и песен о них не споют». Так, – травинка среди просторного луга под размашистой, неотвратимой косой времени: – вжик-вжик-вжик! Только лёгкая испарина на потемневшей стали, только резкий, как молния, отблеск отточенного жала. А неутомимый косарь всё идёт и идёт, и нет ему устали. Он всегда на ногах. Он всегда в деле. Убориста его коса, не сжалится, не промахнётся…
Кружит, кружит сбитая с толку пчела, пьяная от нектара жизни, и не понять ей – в чём дело? Что за порывистый ветер опрокинул навзничь её цветок? Она только что целовала бархатистые губы адониса, ан, нет его! Лишь пастушья сумка трясёт свои пожитки. Один лишь миг, и нет пастушьей сумки. Кудрявый клеверок поднял свою безрассудную голову, глядишь, и нет медоноса. Аникой-воином заступил дорогу иван-чай, но повалился грудью на матушку-землю, и вот он уже лежит, раздавленный тяжёлой поступью неумолимого косаря. Так было от веку, и так будет.
В человеческой судьбе всегда рядом – грустное и весёлое, добро и зло, драматизм и шутейность. Это как орёл и решка в золотом червонце имя которому – жизнь.
В этой книге, документальной и художественной одновременно, через светлую печаль прошедшего времени, трагического в своей сути, я с горькой усмешкой отваживаюсь показать двуединство жизни, применяя шутейную, а коегде и ёрническую формулу языка, чтобы рассказать о жизненных перипетиях родимого мне человека, близкого, в близком мне времени, иначе, как сказал Великий Классик: «Скушно жить на этом свете, господа».
Ещё: в некоторых эпизодах повести автор становится как будто соглядатаем действий своих героев, хотя в то время его и на свете-то не было!
Но это совсем не так, или вовсе не так – я был в жизни этих близких мне людей, как и они теперь находятся в моей жизни, хотя, увы, их уже нет в нашем мире…
Итак, вот он лежит на моей ладони золотой червонец, доставшийся мне в наследство от моих родителей, высвечивая в опускающихся сумерках осеннего ненастья.
Часть первая
1
– Зачем смеёшься?
– Я не смеюсь. Я плачу…
Из разговораМожет быть, одному русскому суждено почувствовать ближе значение жизни.
Н.В. Гоголь. Из письма к А.М. ВиельгорскойС недавних пор ко мне неожиданно привязалась противная старческая привычка – засыпать в кресле.
Привычка эта досаждает особенно тогда, когда усиленно пытаешься понять, что показывает телевизионная картинка? По всем каналам идёт такая невразумительная чехарда и откровенная пошлость, что выбирать не приходится. Массовая культура теперь рассчитана то ли на ватажных подростков, то ли на взрослых недоумков, коими, вероятно, нас и считают непотопляемые черти из электронной шкатулки с улыбчивыми лицами, с хорошим русским произношением, но с трудно произносимыми фамилиями.
Нашему человеку, после привычной погони за хлебом насущным, в самый раз угнездиться в кресле, расслабится, включить говорливый ящик и, вытянув ноги, прислушаться, как они гудят после дневного марафона. А ящик бубнит своё, вдалбливая нам, что сегодняшняя молодёжь выбирает «Херши».
Ну, если хотите – «Пепси»! Хрен редьки не слаще.
Но я себя, увы, уже не могу причислить к молодёжи, да и «Пепси», на мой вкус, – просто сладенькая водица с привкусом валерьянового корня. Поэтому, после угробистого трудового дня, для меня куда полезнее хороший стопарь водки под розовый ломоть малосольного сала в чесночном соусе. Выпил – и подобрел!
Вот теперь можно и к «ящику» повернуться:
– А ну-ка! Что там у нас в Гондурасе?
А в Гондурасе всё спокойно. И тебя, после двух-трёх кадров, уносят прокладки с крылышками куда-то далеко-далеко, где глохнут все звуки, и остаются только умиротворение и покой.
Откроешь глаза, а в экране вместо картинки уже шелестит мыльная пена электрических разрядов. Резкий свет непогашенной люстры кидает с потолка пригоршню колючего золотого песка, норовя попасть тебе прямо в зрачки. Недовольно морщишься и идёшь в постель досыпать уже подтаявшую близким рассветом ночь.
Зимой кресло по-особенному уютное, мягкое, тёплое, словно гагачьим пухом выстланное. Только присядешь, положив ноги на журнальный столик, только голубым светом горящего спирта засветится экран, а ты уже – вот он! Опять на крылышках улетел!
Просыпаешься обозлённый – снова пропал вечер! Никакой интеллектуальной жизни! Одна растительная!
А побороть себя нет никакой возможности…
– Опять по ночам, туды-т твою мать, свет жжёшь! – будит меня грозный голос отца.
В голове проносится паническая мысль: что я, в который раз уснув за книгой, не потушил нашу семилинейную керосиновую лампу. А керосин дорог. Жизнь скудна и однообразна. Весна. Разлив скоро, а у меня резиновых сапог нет. Снова в подшитых валенках по мокрому снегу топать в школу… Э-эх! Когда был Ленин маленький с курчавой головой, носил он тоже валенки и летом, и зимой.
Вскакиваю. Открываю глаза. Господи! Машина времени унесла меня на много-много лет назад. Померещится такое! Отчий дом из руин вознёсся! Оглядываюсь. Никого нет. Один в городской квартире. Жена к родителям уехала. А свет, действительно, горит во всех комнатах, даже на кухне, куда я, отужинав с друзьями-выпивохами в шумной закусочной, вообще, сегодня не заходил.
Вот ведь сыновья память, какая! Столько лет прошло, а до сих пор перед отцовским верным словом робость одолевает. Давно уже и родителя в живых нет, а голос – вот он! В ушах стоит.
2
Обличьем отец мой был весьма колоритен: цыганская борода с редкой проседью на груди кучерявится, не по-старчески густые и чёрные с серебряной нитью волосы на зачёс, как ходили во времена строящегося социализма, во времена его молодости, партактивисты, костистый прямой нос с резким изгибом ноздрей и соколиный взгляд, желтоватый, с искрой, искусственного глаза, другой, живой глаз, был зелёного цвета, приветлив и весел, а тот, стеклянный, наоборот – острый, сверлящий, от которого всегда хотелось скрыться, да некуда. По случаю моего частого непослушания тяжёлая рука родителя мне была хорошо знакома.
Интересный пасьянс раскладывает судьба на каждого человека! Вот они – карты! А все – рубашкой вверх. Попробуй, угадай, что у тебя там сложилось? А карты иногда выпадают интересные…
Свою жизнь отец начинал в плотницкой артели: сначала учеником на подхвате, а потом и равноправным членом бригады.
Артель, ещё помня недавнюю старину, занималась отхожим промыслом, благо, начинался НЭП, и свободные рабочие руки тогда ещё легко можно было продать. Ходили в Москву, где после гражданской войны, почти что каждая улица была превращена в строительную площадку, а такие спецы, как плотники, требовались повсеместно.
«Не спи, вставай, кудрявая! В цехах, звеня, страна встаёт со славою навстречу дня!»
Артель, в которой работал отец, была дружная, большую её часть связывали родственные отношения – кто-то кому-то кем-то доводился.
В этой же артели бригадиром был родной брат отца – Митька, который в ту пору находился в женатом положении – имел детей, но из семьи ещё не был выделен – собирал деньги на своё хозяйство.
Мой отец тогда бритвы не знал – пятнадцать лет от роду, поэтому всё заработанное им, само-собой, записывалось на Митьку.
Отец к водке ещё пристрастного вкуса не имел, а курево – табачок-самосад, был свой, деревенский, так что этот Митька с пребольшой охотой брал своего младшего брата с собой повсюду, где была работа. В поисках хороших денег артель уходила и подальше Москвы – на север, в Архангельск, где шабашили в тамошних лесах и даже на верфях с корабельной сосной, помогая промысловикам и учась у них строить шхуны и шхеры для сезонного забоя морского зверя. Так что не удивительно, когда мой отец к семнадцати годам работал топором и рубанком, как счетовод счётами.
Митька был доволен братом, и по возвращению из отъездов, пьянея, всегда хвалил его перед отцом, а, как протрезвеет, так молчок. Мол, что с него взять, молодой ещё, пока только на подхвате хорош…
Странное дело, но с тех самых незабвенных юношеских лет к моему отцу деньги, ну, никак не хотели идти. Идти-то они шли, да не держались. Ладони что ль такие были, что деньги к ним не липли? Любой инструмент возьмёт – прикипит, а всё, что заработает, тут же сквозь пальцы процеживается, наверное, по причине ранней выучке ремеслу.