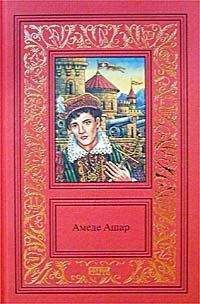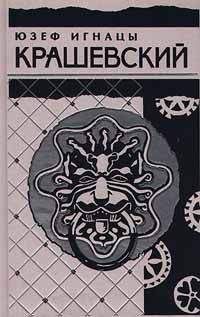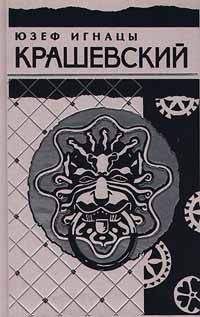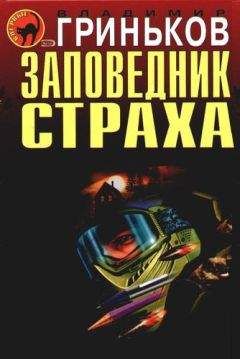Павел Шестаков - Омут
Здесь! За полторы тысячи верст от фатерлянда.
— Сволочи! — плюет за борт один из офицеров.
— Как неприятно все-таки, — говорит другой, более миролюбивый.
— Большевики, предатели, пустили.
— И все-таки лучше эти, чем сами большевики, — замечает резонно толстый штабс-капитан.
— Так кто же они — союзники или победители?! — восклицает какой-то молодой подпоручик.
Все молчат.
Пароход причаливает.
На берегу немецкие часовые. Офицер в светло-серой, почти голубой форме, прищурившись, рассматривает сквозь монокль раненых, грязных, заросших, униженных русских. Часовые стоят скованно, видно, не знают, как вести себя.
Обоюдное гнетущее молчание.
Скорей бы в Новочеркасск. Там немцев нет, остановились в Ростове, который входил некогда в Екатеринославскую губернию, и потому на него претендует союзник кайзера бывший русский генерал, ныне украинский гетман Скоропадский. А офицеры на палубе за единую, неделимую, великую…
Но какая же великая, если барышня в лодке с немцами?..
Значит, победители, а не союзники…
«Победители! — вспоминает Барановский. — Сейчас сами под ярмом. А „союзники“? Французишки крикливые, британцы, ослепленные манией величия. Не простится им, не простится. Еще возродимся и мы, и немцы, и тогда вместе на европейскую жадную гниль, и один порядок от варягов до греков…»
Мысли гонят сон. Хочется на воздух из тесной комнаты.
Он выходит.
Ночь была душная, но небо, которое к утру, может быть, сорвется грозовым потоком, пока еще не затянуло тучами, мириады светил покрывали его, и ничто не мешало им будоражить на земле и разум, и плоть человеческую.
У чугунной узорчатой ограды клинического сквера маячила женская фигура.
— Господин товарищ, вас не мучит одиночество?
Барановский замедлил невольно шаг, и она сразу это уловила в темноте, подошла.
— Вдвоем интереснее, правда?
Его покоробило неуместное слово «интереснее», но он уже так долго один, и призыв нашел отклик.
«Сколько же можно мудрствовать в одиночестве? Может быть, короткое рандеву успокоит нервы?..»
— А ты… скучаешь?
— Женщине всегда скучно без мужчины.
— Мне тоже.
— Пойдемте со мной.
— Куда?
— Я у хозяйки квартирую. У меня чисто.
— Пошли, — решился он.
Он не видит ее лица, да оно и не интересует его, замечает только, что женщина еще молода, и еще ему кажется, что голос этот он где-то слышал. Но не более.
Жилье оказалось рядом, за клиникой, дом с наружной деревянной лестницей, по которой нужно подняться на второй этаж.
— Держитесь за меня, тут одна ступенька поломанная.
Перила тоже шатаются, но они поднялись благополучно.
— Теперь колидорчиком и вот сюда. А там хозяйка напротив. Она спит давно.
Но говорит женщина шепотом.
Он вошел в темную комнату и остановился в смущении, которое всегда испытывал, покупая женщину.
— Свет зажечь?
— Не надо.
Кажется, она довольна. Все-таки другие времена и не стоит привлекать лишнего внимания.
— Вот, койка тут.
Она быстро сбросила покрывало, чуть взбила подушку.
«Где я слышал этот голос?»
Глаза привыкают к темноте, и Барановский видит контур ее вскинутых рук, потом руки опускаются, сбрасывая юбку, и становится видна вся фигура, не осложненная одеждой. Да, она не стара, но уже располнела, и при свете наверняка много теряет. Но зачем ему все это сейчас? Он никогда не был соблазнителем или «ценителем», женщина всегда нужна была ему как женщина и только.
— Ну, что ж ты? — спрашивает она.
Он рывком освобождает поясной ремень.
И вот рядом.
Она дышит прерывисто, и это волнует, но запах…
— Слушай, ты потная.
— Да ведь жарко. Хочешь, помоюсь: У меня таз в углу.
Прикрыв глаза, он слышит плеск воды.
— Вот и я.
— Ложись.
Он сказал это, но возбужденное жаркой ночью желание ушло, исчезло, едва он уловил запах пота. Он был брезглив, и это всегда мешало ему, но он не мог ничего с собой поделать.
А она легла и тут же прижалась в ожидании.
Он провел ладонью по мягкому телу, но ничего не испытал.
— Знаешь, я, наверно, зря пришел.
— Да что ты…
— Я дам тебе деньги. Не бойся.
— Погоди, — схватила она его за руку, увидев, что он хочет подняться.
— Чего ж ждать…
— Вы, мужчины, нервные сейчас, после войны. Подожди. Я тебе помогу.
Это прозвучало унизительно. Но он не хотел грубить.
Она скользнула руками по его груди сверху вниз.
— Не нужно. Я же сказал, что заплачу. Разве тебе это нужно?
— Нужно.
Голос, до сих пор мягкий, просительный, зазвучал жадно, требовательно. И тут он вспомнил, где его слышал.
Маленькая станция. Только что отбитый у красных эшелон. И штабс-капитан Федоров говорит растерянно:
— Барановский! Там творится безобразие. Нельзя допустить. Хотят убить пленную женщину.
— Что за женщина?
— Пойдемте, прошу вас.
Они идут по перрону. Федоров объясняет на ходу:
— Большевистская сестра. Правда, держит себя вызывающе. Заявляет, что убежденная коммунистка. Наши ее заколоть хотят. А тут еще какая-то мегера подстрекает.
У товарного вагона с большой сдвинутой дверью караул едва сдерживал напиравших солдат.
— Чего на нее смотреть… мать ее…
— На штык ее, ребята!
Вокруг довольно много молчаливых зрителей, стоят, ждут, что будет.
— Стойте! — крикнул Федоров: — Она военнопленная и женщина.
Те, что лезли, замедлились. И тут из толпы женщина-доброволец в солдатской шинели крикнула громко:
— Вот и хорошо, что женщина.
Курносый унтер-офицер спросил, откликаясь:;
— А чо с ней сделать, Дуська?
— Чо? Не знаешь чо? Становись в очередь и все… до смерти; пока не сдохнет. Вот чо!
— Го-го-го!
Кто хохотал, кто-то сплюнул.
— Р-разойдись! — рявкнул Барановский.
Его распоряжение выполнили. Только та, в шинели, бросила, уходя;
— Эх, мужики… И с бабой-то справиться не могут!
И еще раз он ее видел, когда военный суд приговорил эту женщину к телесному наказанию за незаконное ношение офицерских погон.
— Погоди!
— Ну что ты все — погоди да постой? — проговорила она недовольно.
— Постой.
Барановский потянулся рукой к пиджаку, который повесил на стул, и достал из кармана спички.
Вспыхнул маленький огонек.
— Я помню тебя.
— Может, и видал. А что?
— Тебя… пороли?
Спичка погасла, потому что она дунула на нее.
— Ну и что? Было. Мало ли что с кем было.
— Я видел.
— Интересно глазеть было?
— А тебе… больно?..
— Вот привязался! Да не больно. Он с пониманием порол. Не зверь же. Один раз только. Напослед, хамлюга…
И это Барановский помнил. Как не удержался, захлестнуло темное, и подошел, чтобы посмотреть, стыдясь себя…
— А тебе стыдно было?
— Чего стыдно… Меня бьют, да я ж еще и стыдиться должна? Да и чего? Я в рубашке была.
Да, в длинной, ниже колен, и широкой, скрывавшей тело рубашке. И заметно было, что казак, проводивший экзекуцию, не свирепствует. Но вот для последнего удара он поднял руку повыше и задержал ее на мгновение.
— А это на добрую память, господи благослови!
Плеть свистнула пулей, и полотняная ткань треснула, как по шву, ровной, тотчас же окрасившейся кровью полосой.
Она взвизгнула животно, и этот утробный короткий вопль, обозначающий конец жестокого и непристойного зрелища, разрядил атмосферу. Напряженно дышавшая толпа разразилась хохотом, но Барановский не смеялся. Он презирал себя за то, что пришел и смотрел.
— А тот, казачья харя, дурак, — вспомнила женщина с давней обидой. — Показал свое нутро, разбойник. Нашел, где лихость показывать. Ну, вам же и хуже…
— Почему?
— Да я вам хотела теятр маленький сделать. Завернуть подол да поклониться — благодарю, мол, за науку! Вы-то чего собрались? Небось, голую посмотреть охота была.
«Была».
— Дорого тебе «теятр» обойтись мог, — сказал он, чувствуя, как сохнет во рту. — Там бы с тобой такое сделали…
— А чего?
— Растерзали б до смерти, — выговорил он хрипло.
— Ну, тогда не растерзал, хоть сичас попробуй.
Он молча набросился на нее, видя в закрытых глазах белое, пересеченное красным тело.
Когда он уходил, она сказала:
— Приходи еще. Все ж воевали вместе.
* * *Так уж получилось, что в ту ночь не спали многие.
Не спали и Третьяков, и Шумов.
Третьяков сидел в своем кабинете со стаканом чая в большой сжатой руке. Чай был крепкого настоя, красновато-коричневый. Он восстанавливал силы. Ничего больше взбадривающего Третьяков не признавал. Когда-то, грузчиком, он мог выпить много водки, особенно на спор. Пил по праздникам. Сил и без водки хватало. Закуска с «бутербродом» в счет не шла. Так делали другие, так и он делал. Но, и много выпив, в лютость или в беспамятство никогда не впадал… Если затрагивали, он мог остепенить любого и трезвый. Однако приходской священник, отец Афанасий, счел нужным однажды предупредить.