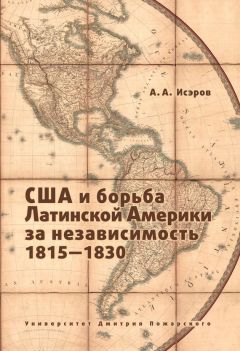Марк Твен - Жанна дАрк
Прошли семь месяцев осады, осуществилось то, что французские генералы считали невозможным; невзирая на все препятствия со стороны министров и военных советников короля, эта крестьяночка семнадцати лет выполнила свой бессмертный труд – выполнила в каких-нибудь четыре дня!
Быстро разносятся добрые вести, как и дурные. К тому времени как мы собрались вернуться домой через мост, весь Орлеан озарился потешными огнями, и небеса, видя это, зарделись от удовольствия. Гром пушек и гул колоколов превзошли все прежние проявления шумного восторга орлеанцев.
По нашем прибытии… право, этого не описать! Мы подвигались среди бесконечной толпы людей, и народ проливал разливанное море радостных слез. Не было видно ни одного лица, по которому не струились бы слезы; и если бы ноги Жанны не были защищены броней, то горожане зацеловали бы их вконец. «Привет! Привет Орлеанской Деве!» – тысячу раз слышал я этот возглас. Другие кричали: «Привет нашей Деве!»
Ни одна девушка не снискала себе такой исторической славы, как Жанна д'Арк в этот день. И что же – вы думаете, у нее вскружилась голова и она нарочно не легла спать, чтобы насладиться этим гимном славы и торжества? Нет. Другая девушка поступила бы так – но не она. У нее было великое и простое сердце, как ни у кого из людей. Она тотчас улеглась в постель и крепко заснула, словно утомившийся ребенок. А когда народ узнал, что она ранена и нуждается в отдыхе, то вокруг дома было сейчас же прекращено всякое движение и сутолока; устроили добровольную ночную стражу, охранявшую ее сон. Горожане говорили друг другу: «Она дала нам спокойствие: пусть ей самой будет спокойно!»
Все были уверены, что на следующий день англичане покинут окрестности, и все говорили, что ни живущие ныне граждане, ни их потомки не перестанут чтить этот день в память Жанны д'Арк. Больше шестидесяти лет это обещание исполнялось – и будет исполняться во веки веков. Орлеан никогда не забудет 8 мая и никогда не перестанет справлять в этот день торжество. Это – день Жанны д'Арк, день священный [6] .
Глава XXIII
На следующее утро, чуть свет, Тальбот и его войска покинули свои бастилии и ушли, не дав себе времени хотя бы сжечь или разрушить укрепления или прихватить кое-какое добро: они оставили крепости в полной неприкосновенности – со всеми складами провианта и оружия, со всем, что было запасено для продолжительной осады. Население с трудом верило, что действительно совершилось это великое дело… что они вновь получили свободу и могут уходить и возвращаться через любые ворота города, беспрепятственно и спокойно; что грозный Тальбот, этот бич для французов, этот человек, одно имя которого могло привести в оцепенение французскую армию, – что он ушел, побежденный, вытесненный, – прогнанный девушкой.
Город опустел. Изо всех ворот потянулись толпы народа. Точно муравьи копошились они вокруг английских бастилий, но шумели, не в пример этим созданиям; унеся припасы и орудия, они обратили все двенадцать крепостей в чудовищные костры, в подобие вулканов, над которыми поднимались огромные столбы густого дыма, словно подпиравшие небосвод.
Восторг детей проявлялся иначе. Для иных малышей семь месяцев – все равно что целая жизнь. Они успели забыть, какова с виду трава, и зеленый бархат лугов был раем в их изумленных и счастливых глазах, так давно не видавших ничего, кроме грязных улиц и дворов. Они не могли надивиться на этот простор широких полей, где им можно было вдоволь бегать, плясать, кувыркаться, резвиться – после долгого, безотрадного сидения взаперти. И вот они отправились блуждать по живописным окрестностям, в ту и в другую сторону от реки, и вернулись только к вечеру, насобирав кучи цветов и раскрасневшись от свежего сельского воздуха и благотворных подвижных развлечений.
После сожжения укреплений взрослый люд начал ходить с Жанной из церкви в церковь, посвятив остальную часть дня благодарственным молитвам по случаю освобождения города. А вечером в честь Жанны и ее полководцев было устроено торжество, улицы расцветились огнями, и началось всеобщее веселье и пированье. Незадолго до рассвета, когда население уже давно разбрелось по домам, мы оседлали лошадей и двинулись в Тур – с докладом к королю.
Обстановка нашего путешествия могла бы вскружить голову кому угодно – только не Жанне. Все время нам приходилось ехать среди восторженных, благодарных поселян. Они толпились вокруг Жанны, чтобы прикоснуться к ее ногам, к ее доспехам, к ее коню; они становились на колени посреди дороги и целовали отпечатки подков ее коня.
Вся страна славословила ее. Знаменитейшие сановники церкви отправили королю послание, в котором превозносили Деву, сравнивали ее с библейскими героями и святыми и предостерегали короля, чтоб он не позволял «неверию, неблагодарности или иным несправедливостям» замедлять или пресекать божественную помощь, ниспосланную через нее. Можно подумать, что слова эти были пророческими, – не станем оспаривать. Но, на мой взгляд, они были подсказаны сим великим мужам ничем иным, как точным знанием суетной и предательской души короля.
Король выехал в Тур для встречи с Жанной. Этого жалкого человека и посейчас называют Карлом Победоносцем, во имя побед, которые были одержаны за него другими; но тогда у нас в ходу было для него иное прозвище, которое гораздо вернее отражало его облик и вполне соответствовало его личным заслугам: Карл Подлый. Когда мы вошли в приемную залу, он восседал на троне, окруженный своими мишурными выскочками и щеголями. Начиная с талии и до низу платье на нем было так затянуто, что он напоминал собой морковь с раздвоенным концом; его башмаки отличались непомерно длинными, гибкими, похожими на веревки носками, которые надо было пристегивать у колен, чтобы не споткнуться во время ходьбы; накинутый на плечи бархатный малиновый плащ едва доходил до локтей; на голове у него была высокая войлочная шляпа в форме наперстка, повязанная вышитой жемчугом лентой, за которую было заткнуто перо, торчавшее словно из огромной чернильницы; а из-под этого наперстка ниспадали пряди жестких, кончавшихся завитками волос, так что голова вместе с убором была похожа на волан. Весь наряд его был из богатых и ярких тканей. На коленях у него лежала, свернувшись калачиком, крохотная левретка, которая рычала и скалила белые зубы при малейшем беспокоившем ее движении. Королевские щеголи были одеты столь же пышно, и когда я вспомнил, что Жанна назвала военный совет Орлеана «собранием переодетых горничных», то я невольно подумал о тех людях, которые все свои деньги тратят на пустяки, ничего не сохраняя для приобретения полезного; вот для таких-то людей следовало бы приберечь это прозвище.
Жанна упала на колени перед его королевским величеством и перед другим, столь же ничтожным животным, покоившимся у него на руках. Мне мучительно было видеть это. Что сделал этот человек для своей страны или для кого-нибудь из живущих в ней? За что она и другие преклоняют колени перед ним? Другое дело – она. Ведь она совершила великий подвиг, единственный во Франции за пятьдесят лет, и освятила его своею кровью. Им бы надлежало поменяться местами.
Впрочем, говоря по правде, Карл на сей раз, в общем, поступил очень хорошо – гораздо лучше, чем он привык поступать. Передав собачонку одному из придворных, он снял шляпу перед Жанной, как будто она была королева. Затем он сошел по ступенькам престола, поднял Жанну и проявил самую искреннюю и благородную радость, приветствуя ее и благодаря за ее необычайные подвиги на его службе. Мои предубеждения возникли позднее, и если б он остался таким же, каким он был в ту минуту, то я составил бы о нем другое мнение.
Да, он поступил хорошо. Он сказал:
– Вам не подобает преклонять предо мною колени, мой несравненный полководец. Вы сражались по-королевски, и да воздадутся вам за это королевские почести. – Заметив ее бледность, он продолжал: – Но вы не должны стоять; вы проливали кровь за Францию, и еще свежа ваша рана. Пойдемте же! – Он подвел ее к креслу и сел рядом с ней. – Теперь скажите мне прямо, как человеку, который вам многим обязан и открыто в этом признается, в присутствии собравшихся придворных: чем мне вознаградить вас? Назовите сами.
Мне было стыдно за него. А между тем я был несправедлив, потому что не мог же он за несколько недель узнать эту дивную девушку, когда даже мы, воображавшие, что нам известна вся ее жизнь, ежедневно видели выплывающие из облаков новые высоты ее души, о существовании коих мы до того времени и не подозревали. Но так уж мы все устроены: если мы что-нибудь знаем, то мы презираем тех людей, которым не случилось узнать того же. И мне стыдно было за этих придворных, которые облизывались, завидуя счастью Жанны; но ведь и они знали ее не лучше, чем сам король. Краска залила щеки Жанны при мысли, что она трудилась на пользу отечества якобы ради награды; и она опустила голову, стараясь скрыть лицо, как бывает со всеми девушками в минуту смущения. Никто не знает, почему это так, но чем более они краснеют, тем труднее им побороть свое замешательство и тем тягостнее для них взоры окружающих. Король значительно ухудшил дело тем, что обратил на Жанну всеобщее внимание, а ведь для вспыхнувшей от смущения девушки нет ничего мучительнее; этим можно довести девушку даже до слез, если она так же молода, как была молода Жанна, и если кругом стоит толпа незнакомых людей. Причина этого известна лишь Богу, от людей она скрыта. Я бы на ее месте, кажется, скорей чихнул, чем покраснел. Впрочем, рассуждения эти несущественны; буду продолжать, о чем начал. Король сказал какую-то шутку по поводу ее внезапного румянца, и тут уж лицо ее окончательно запылало. Он тогда раскаялся в своем поступке и, желая успокоить ее, сказал, что румянец ей очень к лицу и что ей нечего смущаться; конечно, после этих слов она зарделась еще пуще, и теперь даже собачонка могла заметить, как она покраснела; слезы брызнули у Жанны из глаз. Я заранее был уверен, что это случится.