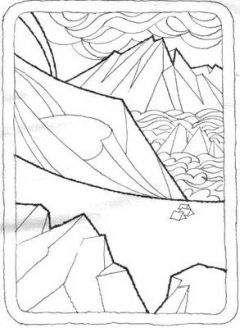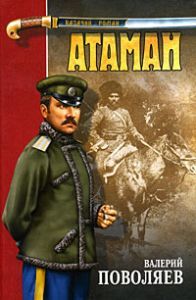Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич
Неважно было товарищу Антону, что Ленин этих слов не говорил, важно, что это здорово пришлось к месту.
— Плюс ко всему у вас полно интервентов. Куда ни плюнь — обязательно попадешь в интервента! — Товарищ Антон вновь саданул кулаком о кулак. И вновь в воздух полетели искры. — Вот что надо делать с ними. Давить, давить и давить! По-ленински. Как он и велит нам, собственно.
Было слышно, как за окнами старого купеческого дома заливаются уличные кобели.
— Одним из самых опасных врагов советской власти я считаю атамана Калмыкова, — сказал Антон — Человек этот очень жесток и продажен насквозь. Иностранные агенты делают на него ставку, считают Калмыкова руководителем, выбранным большинством казачества, а это совсем не так. Калмыкова надо убирать в первую очередь.
Аня Помазкова сидела в углу и внимательно слушала товарища Антона — тот говорил убедительно, точно, а главное, мысли ее совпадали с мыслями этого человека. Особенно по части ликвидации атамана Калмыкова. Виски ей стиснула боль, она поморщилась, сунула руку в карман недорогой шевиотовой кофты, сшитой на заказ. В кармане лежал револьвер.
В августе восемнадцатого года в борьбу против советской власти вступили иностранцы — те самые, которых товарищ Антон назвал интервентами (до августа имелись только представительства, но войск не было). Вначале по улицам дальневосточных городков стали маршировать англичане и французы, смешно вздергивая в парадном шаге ноги и вскидывая винтовки, при этом они очень горласто исполняли свои боевые песни. А двадцать третьего числа появились японцы. Они действовали решительнее всех — выгрузили из трюмов своих кораблей пушки и объявили о создании боевых отрядов, вплоть до карательных.
Во Владивостоке сидели чехословаки, их оказалось больше всего — крикливые, пестро одетые, они вели себя в городе, как цыгане на базаре. Воевали они плохо, а вот есть умели хорошо, требовали, чтобы каждый раз им подавали на стол не менее трех блюд — первое, второе и третье, а еще лучше, чтобы блюд было четыре, чтобы еще и салат радовал глаз и желудок: предпочитали жареный папоротник со сметаной, и если чего-то не хватало — здорово сердились, галдели и корчили зверские рожи.
При случае иного русского, если у него были деньги, могли обдуть в карты, делали это артистично, легко, разбойно, а потом долго веселились, кудахтали и талдычили о союзническом долге «Ивана-дурака» перед ними.
Чехословаков было много. Количеством своим могли повалить Россию набок.
Красные под массовым натиском чехлословаков отступили, пятого сентября они сдали Хабаровск. Калмыков довольно потирал руки:
— Красная нечисть откатывается. — Чего может быть лучше!
Он вступил в город вместе с чехословаками.
Семнадцатого сентября Калмыков занял пост начальника гарнизона и учреждений военного ведомства — так называлась его должность в Хабаровске (японцы немало сил приложили к тому, чтобы Маленький Ванька получил этот портфель; кстати, он действительно обзавелся кожаным портфелем, небольшим, аккуратным, тисненным под крокодила, реквизированным у инспектора начальных классов хабаровских гимназий).
— Теперь мы посмотрим, какой коньяк лучше всего идет под ананасы.
Начальник 12-й дивизии генерал Оой — человек суровый, совершенно не умеющий улыбаться, несмотря на хваленую японскую вежливость, поздравил Калмыкова, как «начальника строевой части русских войск, признанных союзниками».
Отряд Калмыкова — потрепанный, не умеющий держать строй, разномастно вооруженный — от старых штуцеров, найденных на складах Владивостока, до японских «арисак» и немецких «маузеров», колонной прошел по Хабаровску, Калмыков пожалел, что нет оркестра.
— Мои орлы под музыку печатали бы шаг так, что его было бы слышно даже в Китае.
— Как нет музыки? Есть музыка. В Хабаровске находится лучший на Дальнем Востоке духовой оркестр.
Это сообщение заинтересовало Калмыкова.
— Как лучший духовой оркестр? Большой?
— Шестнадцать человек. В основном мадьяры. И не только…
— Мадьяры? — Калмыков подвигал из стороны в сторону нижней челюстью. — Пленные?
— Именно они, господин атаман.
Калмыков снова подвигал челюстью, поморщился. В кости и мышцы его натекала горячая тяжесть.
— И они что же, не могут нам сыграть?
— Не могут.
— Не могут или не хотят?
— Это ведомо только им самим, господин атаман.
— Тащите-ка их сюда!
Музыкантов действительно насчитывалось шестнадцать человек, и это были в основном мадьяры — из Будапешта и Секешвефервахера, из Печа и с озера Балатон; играли они «зажигательную» музыку, делали это слаженно, на одном дыхании, красиво, заставляли пускаться в пляс сивых дедов, которые по пятнадцать лет не вставали с печек-лежанок, на глаза превращаясь в мертвые кости. Молодели деды неузнаваемо под свист волшебных дудочек и труб. В Хабаровске не было ни одного дома, чтобы музыкантов не мечтали туда заманить, — мадьярский оркестр был очень популярен.
В тот хмурый, с быстрыми косматыми тучами день, когда в Хабаровск вошли калмыковцы, в городе играли несколько свадеб. Война войной, а жизнь жизнью, молодость брала свое, и жизнь требовала своего, она, несмотря на лютый натиск смерти, жаждала продолжения… Род человеческий не должен был прерываться, и мадьяры искренне радовались вместе с молодыми и завидовали их счастью:
— О-о-о, у вас будут дети! У вас будет много детей!
Кто-нибудь из музыкантов обязательно вздергивал вверх большой палец и восхищенно округлял глаза.
Музыканты в тот день побывали в одном доме — справном, купеческом, где их едва ли не до одури закормили пирогами с роскошной рыбой, имеющей глуховатое русское название калуга, потом переместились в другой дом, не менее богатый, где их также чуть не уморили едой — еле вырвались. И все равно им было очень весело, они были благодарны русским людям за доброе отношение, за праздник души, которые те устроили. Третья свадьба проходила в бедном доме за печально знаменитыми оврагами, расположенными недалеко от Амура.
Овраги были известны тем, что однажды там в сырой низине увязла лошадь. Вместе с телегой. Беднягу так и не удалось вызволить — она осталась в овраге навсегда. Телега — тоже; ее засосало вместе с грузом, который волокла несчастная доходяга, кобыленка с распухшими, вывернутыми едва ли не наизнанку мослами.
Музыканты в игре не отказывали никому — ни бедным, ни богатым; понимали, что перед Богом все равны, значит, и обслуживать всех должны одинаково.
В бедном, косо сползавшем одной стороной в овраг дворе их и накрыли калмыковские всадники.
— Мадьяры? — перегнувшись через изгородь, спросил пожилой хорунжий с тугим седым чубом, выбивавшимся из-под козырька фуражки.
— Мадьяры, — ответил ему трубач по имени Шандор. Поскольку он сочинял и музыку, и тексты к ней, и вообще баловался стихами, занося их в тетрадку, то трубача уважительно величали Петефи, как великого венгерского поэта.
Хорунжий стукнул рукоятью плетки о ладонь.
— Выходи на улицу, мадьяры! — приказал он. — Стройся в колонну по два.
— У нас же свадьба — мы еще не отыграли, — попробовал было сопротивляться Петефи и в ту же секунду понял: это бесполезно.
— Я тебе сейчас так отыграю, — хорунжий вторично стукнул плеткой по твердой, будто вырезанной из дерева ладони, — так отыграю, что свою маму будешь звать два часа без остановки. Выходи, кому сказали! И побрякушки свои не забудьте. Атаман требует!
Сопротивляться было бесполезно. Казачий наряд пригнал мадьяров в небольшой парк, расположенный на макушке высокой, ровно срезанной каменной горы, недобро глядевшей в Амур. Хоружний слез с коня, привычно похлопал плеткой по жесткой деревянной ладони, прошелся вдоль строя музыкантов. Мадьяры, прижимая к себе инструменты, угрюмо смотрели на него.
— Чего глядите на меня, как тыквенные семечки на курицу? — полюбопытствовал хорунжий.
Музыканты не ответили ему, промолчали. Только один из них, маленький, тщедушный, с крупным вороньим носом, жалобно вздохнул и, словно бы собравшись куда-то бежать, переступил с ноги на ногу. Хорунжий воспринял это движение по-своему и демонстративно хлопнул плеткой по ножнам шашки.