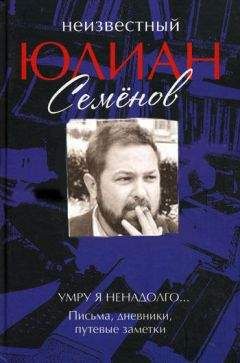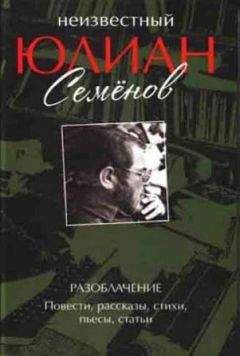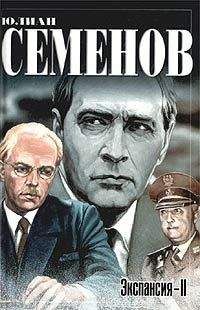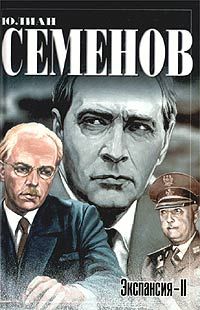Юрий Рудницкий - Сумерки
В застенке у горна стояли большая железная жаровня и медный котёл какой-то необычной формы. Клещи, гвозди, верёвки, лестница с коловоротом, всевозможные непонятные орудия для пытки наполняли комнату, стены которой почернели от копоти, а пол от чёрных вонючих пятен запёкшейся крови. И хоть жутка и мрачна была эта комната, но Зверж только в ней чувствовал себя на месте, и только тут немного прояснялось его свирепое, дикое лицо.
В тот самый день, когда ватага боярина направилась лесом в далёкий Луцк, Зверж весело копался в своей мастерской. Зажёг смоляные факелы, развёл огонь, положил в него клещи, гвозди и наконец повесил над огнём казан, наполненный смолой. Едва лишь он управился с работой, как вошёл Заремба с мечом на боку и с другим под мышкой.
— Ты готов? — спросил он хмуро.
— К услугам вашей милости! — согнувшись в три погибели, сказал палач. — Будет и тёпленько и уютно. Хи-хи-хи! — захихикал он противным голосом, и его заросшее рыжими волосами лицо сморщилось и вдруг превратилось в звериную морду.
— Приведи этого вчерашнего! — приказал Заремба.
Палач вышел. Оставшись один, пан каштелян оглядел орудия пытки. По лицу блуждала злорадная улыбка, время от времени белые пальцы сжимались в кулак, он явно сердился.
Но вот зазвенели кандалы, послышались тяжёлые шаги за дверью, и вскоре на пороге зачернели силуэты людей.
Их было четверо. Впереди шёл боярин Микола, верней, то, что от него осталось: бледный-бледный призрак, обтянутый кожей скелет с тяжёлыми цепями на руках и ногах, с белой, как лунь, головой. Его с трудом то волокли, то подталкивали два подручных палача. Казалось, ещё в недавно таком могучем теле боярина не сохранилось ни капли силы. Её остатки собрались в глазах, в страшных глазах умирающего человека, где горит невероятная жажда жизни и где то вспыхивают, то гаснут её последние отблески.
Боярин окинул взглядом застенок и понял, что его ждёт. Но лишь брови его ещё больше сошлись над глазами, а взгляд остановился на Зарембе.
— Добрый вечер, достойный боярин! — с любезным видом приветствовал тот узника. — Не сердись, что тебя заковали, но ты уже однажды кидался на меня, чтобы не вздумал вторично…
— Врёшь, каштелян! — бросил резко боярин. — Не кидался я на тебя, а вырвал из рук неминуемой смерти и, взяв в плен, не бросал закованным в подземелье.
Каштелян побледнел, но сдержался.
— Тут ты и ошибся, боярин, — заметил он. улыбаясь, — потому я-то убежал, а ты отсюда уже никуда не убежишь, разве что ответишь по доброй воле на несколько вопросов и согласишься на мои условия, либо… — тут каштелян ткнул пальцем вверх, — либо вздумаешь отправиться туда.
— Вижу, что сделал худо, и всё-таки не жалею, что так поступил. Так хотел бог! — тут боярин опустил голову. — Может, моя принесённая в жертву жизнь искупит свободу моего народа. Может, и лежащее на нём проклятье падёт на твою голову, ибо неблагодарность лишь наименьшее твоё злодейство.
Заремба нахмурился.
— Смотри, раб! — крикнул он. — Я приказал вырвать тебе клещами все зубы, чтобы не кусал руку, которая тебя будет кормить. Вижу, что придётся ещё вырвать и язык, чтобы не богохульствовал и не врал.
Лицо боярина покрылось лёгким румянцем.
— Думаешь, собака, я не знаю, для чего всё это? — и он кивнул головой в сторону разложенных орудии пытки. — Знаю тебя и твоё племя. И запомни, что последнее слово, которое вымолвит мой язык, будет обращено к тебе.
— Какое же это слово, может, «прошу пощады»? — спросил глумливо каштелян.
— Нет! Подлец! И это говорит тебе человек, стоящий на пороге смерти. А такой человек говорит правду.
Каштелян, словно его пырнули шилом, подбежал к закованному боярину. Казалось, он выцарапает ему глаза, глаза, в которые не смел заглянуть. Но паи Заремба научился владеть своими страстями, да и честь не являлась его самым больным местом. С минуту он стоял, громко сопя, потом хрипло прорычал:
— Не дразни меня, боярин, у меня к тебе дело. Пусть хранит меня бог и его пшенайсвентейша матка[14], чтоб тебя искалечить или убить. Я тоже служу своему народу и во имя народа спрашиваю…
— Ты служишь нескольким вельможам и королю! — холодно заметил боярин. — Народ не зарится на чужое и в чужую землю не суётся, разве если вы, шляхта, его заставите. Ты служишь шляхте, в душе которой угнездился дьявол, и служба твоя дьявольская, каштелян, и дьявол тебе за неё заплатит по заслугам. А теперь спрашивай! Мне самому любопытно послушать, что хотят от меня польские главари.
Каштелян опустился на скамью, один меч положил на колени, а в руки взял другой.
— Боярин, — начал он, — обдумай как следует, прежде чем дать ответ, и всеми святыми тебя заклинаю, соглашайся! Видишь этот меч?
— Вижу! — шёпотом ответил боярин, его ясный взгляд померк, и он отвернулся.
— Да! — продолжал Заремба, — это твой меч, ты узнал его. От твоего ответа зависит, получишь ли его назад или нет. Ты знаешь, что между нами идёт война, однако не ведаешь того, что ни король, ни великий князь её не хотели. Теперь руки чешутся у Свидригайла, но король по-прежнему и слышать о ней не желает. Тем не менее война разгорается, и разожгли её вы, Юрша, Несвижский, Рогатинский, Нос. И не вы одни. У вас есть сообщники среди галицкого, волынского и подольского боярства. У вас есть друзья в Киеве и в Орде. Назови мне их! Хотя бы трёх-четырёх. Тогда, может, война и погаснет, но кровь пролиться должна. Иначе Галицкая земля не успокоится. Пусть же эту кровь прольют одни лишь подстрекатели. Огонь восстания потухнет, а владетели договорятся. У нас найдутся средства обуздать Свидрика и задобрить Ягайла. Но вас, подстрекателей, следует наказать, и тогда восторжествует справедливость… Боярин, именем короля и сената обещаю тебе жизнь, свободу и всю Рогатинскую волость на вечную дедину по польскому указу, обещаю шляхетский герб, рыцарский пояс и рогатинское староство, коли послужишь верой и правдой королю. Получив от короля ратников, ты двинешься с ними, по велению его королевского величества на восток. Все наши гарнизоны тебя поддержат, а захватить и предать в руки отчизне всех изменников не будет трудно… Ведомо мне также, что ты, боярин, неохотно пачкаешь свои руки кровью беззащитных. Так знай, судьёй буду я, а палачом он.
И Заремба указал на улыбающегося Мацея Звержа.
— Мы поедем с воинами и не отяготим твоей совести грехами за кровь и смерть.
По мере того как Заремба говорил, лицо боярина менялось, из бледного становилось красным, потом малиновым, а налившиеся кровью глаза готовы были выскочить из орбит.
— Грехами за кровь и смерть… да! — с трудом вымолвил он. — Да, а измена…
— Измену твою оправдает милость его величества. Повиновение королю смывает позор с тебя и твоего будущего герба…
— Ах, не о той измене я говорю. Разве то измена! Но та, другая, страшная, подлая, змеиная измена… эх! Только в твоём мозгу, каштелян, могла вылупиться подобная мысль.
— В нашем отечестве нельзя оправдать измены — измены королю и Короне, — ответил каштелян. — Твой же поступок будет не изменой, а службой, а служить обязаны все.
— Ха-ха-ха! — захохотал вдруг Микола из Рудников. — Ха-ха-ха!
Он смеялся долго-долго. Всё его тело тряслось ог судорожного смеха, так что позвякивали цепи. Наконец боярин умолк, и какую-то минуту стояла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня и тяжёлым дыханием, вырывавшимся из сдавленной груди. Успокоившись, он заговорил тихим, ровным голосом:
— Меня не дивит, что у твоего короля и в твоей голове могла зародиться такая подлая, отвратительная мысль о нарушении верности. Ты не способен почувствовать змеиного яда собственных слов, потому что ты в душе подлец, хуже нехристя, хуже скотины, хуже волка, который пожирает и терзает, но не предаёт своих собратьев собакам. Я знаю, когда дело идёт о деньгах и наживе, шляхтич продаст всех и вся! Но я не шляхтич, и для меня закон любить отчизну и народ, которому принадлежишь, незыблемый закон. Никакие муки не выдавят из меня ни слова из всего того, что ты от меня потребовал. А когда выпотрошишь у меня внутренности, то не забудь заглянуть и в сердце. Ты увидишь, чем оно бьётся. Найдёшь в нём всё то, чего нет в сердце шляхтича, найдёшь и объяснение моему ответу. Или думаешь, поганец, я не понимаю всей важности нынешней минуты. Отлично понимаю и знаю, что сейчас решается судьба нашей жизни — либо её рассвет, либо сумерки на дол— гие-долгие столетия. Свобода или рабство, жизнь или смерть. И вот приходишь ты и, подобно нечистому демону, искушавшему спасителя, обещаешь мне золотые горы за вечное злополучие моего народа… Подумай об этом, Заремба, и ты поймёшь, до чего беден человеческий язык, чтобы назвать всю бездонную глубину твоей подлости, лицемерия и лжи.
Голос Миколы, по мере того как он говорил, креп, и последние его слова гремели громом под сводами подземелья. Лицо каштеляна покраснело, глаза загорелись, как угли, и, когда боярин умолк, Заремба встал со скамьи и кивнул палачам.