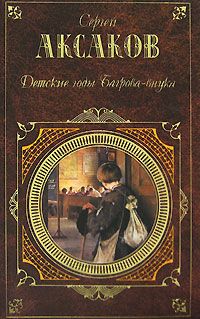Валентин Костылев - Иван Грозный. Книга 3. Невская твердыня
Иван!.. Иван!.. Очнись!.. Жив ты! Жив!
Вскочив с пола и сотрясаясь от ужаса, царь попятился своею громадною, сутулой спиной к стене. Широко раскрытые глаза его впились в струйки крови, сочившиеся из виска царевича:
– Не надо! Не надо!.. Милый мой! Не смей! Господи, что же это такое?! Иван! Иван! Поднимись! Горе! Боже мой, горе!..
Оглядываясь в растерянности по сторонам, царь подхватил под мышки царевича, с силою поднял его, стараясь усадить в кресло. Налитое кровью от натуги его лицо осенила лукавая улыбка.
– Ваня! Садись, садись! Милый!.. Прости! Никогда больше...
Потный, в слезах, со слипшимися на лбу волосами, царь, склонившись над сыном, покрывал поцелуями его залитое теплою кровью лицо, прижимая к его виску ладонь.
– Сын мой! Иван! Я не хотел того... Не хотел... Я... Умру я... Ты будешь! Люблю тебя. Анастасия говорила. Она!.. Господи! Анастасия, я не хотел!.. Прости!
И вдруг, упав на колени, царь обхватил ноги царевича и уткнулся в них головою.
Воющим, жалобным голосом он выкрикивал какие-то непонятные слова. Окровавленными руками он сжимал свою голову, сам весь в крови, страшный, обезумевший... Одно только слово ясно разобрали мамки: «Анастасия!»
Царевич полулежал в кресле с закинутой на спину головой, с закрытыми глазами. Он не шевелился, странно неподвижный, чужой, далекий...
Иван Васильевич подвинулся вплотную к его лицу, с ужасом вглядываясь в него, прислушался, и страшный крик его разнесся по комнатам дворца:
– Лекаря! Лекаря!.. Лекаря... Умирает! Спасите!
Мамки в паническом ужасе бросились, друг за дружкой, в покои царевны Елены.
Обессилевший, почти потерявший сознание, царь приблизился к двери, выходившей на рундук [10].
Ветер бешено ворвался откуда-то снизу, со стороны озера, вместе с вихрем ледяного дождя, обдал холодом и пронизывающей тело сыростью.
Царь, прижавшись к каменной склизкой стене, уцепился за намокнувшие перила рундука.
Ночь! Мрак! Небытие!
У самых ног в диком смятении ревут с жутким хрустом деревья.
– Смерть!.. Вот она!.. Пришла опять!.. Опять! Опять!
Она только что глядела на царя сквозь потухающий взор царевича; только сейчас, сию минуту он всем существом своим ощутил ее – ледяную, непреклонную, страшную...
«Как жалок ты, царь московский!..» – слышится Ивану Васильевичу со всех сторон.
«Снова смерть напоминает тебе о твоем бессилии, о твоем ничтожестве!»
Содрогаясь всем телом, задыхаясь, царь шепчет:
– Иван!.. Ванюшка!.. Пощади отца!.. Спаси нас, Господи!.. О-о-х! О-о-х!
Обессилевший от горя, от страха, царь медленно сползает вниз, на мокрый, холодный пол рундука. И кажется ему, что это – могила, он медленно, против своей воли, уходит в нее вслед за сыном...
– Спасите!.. – хочет крикнуть он и не может...
Черная, шумная муть бушующей Вселенной всасывает его в себя...
Только в полночь, перед рассветом, царедворцы нашли лежащего без сознания Ивана Васильевича на холодном, мокром полу рундука.
Четыре дня прожил царевич Иван. Четыре дня лекари и знахари суетились около его ложа. Поили его овечьим молоком, разбавленной в воде медвежьей желчью и водой яичной с сахаром. Знахари повесили на шею царевичу ладанку с тертым хреном и чесноком.
А когда царевич терял сознание, зажигали две восковые свечи и одной из них «подкуривали под нос».
Юродивый Большой Колпак неотлучно находился в горнице, где лежал царевич Иван. Сам царь хотел этого.
На голове юродивого дрожал большой железный колпак, все тело обвито было тяжелыми веригами. Полунагой, седобородый, он стоял в темном углу и, обратив свои большие бесцветные глаза к небу, повторял бесконечно одно и тo же:
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Земля ты, мати наша, не пей крови, не губи души! Железо, брат мой, выйми из тела недуг и от сердца щекоту! Всегда, ныне в присно.
Царевичу становилось все хуже и хуже.
Тогда знахари насильно оттолкнули иноземных лекарей от постели царевича и, обнажив его догола, натерли горячее, как огонь, тело его теплым тестом.
А в соседней моленной палате монахи день и ночь служили каноны святым угодникам. Тут же находился и сам царь.
Стоя на коленях в черной монашеской рясе, он посиневшими губами говорил:
– «Славлю тебя всем сердцем моим, поклоняюсь пред святым храмом твоим!»
«И славлю имя твое за милость твою и за истину твою!»
«В день, когда я взываю к тебе, услышь меня и всели в душу мою бодрость!»
«Прославят тебя все люди, когда увидят благость твою!»
«Если я пойду посреди напастей – ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя!»
«Да будет милость твоя ко мне, окаянному, не отнимай у меня чадо мое возлюбленное, единокровное!.. Не отнимай!»
Когда царь замолчал, монахи вдруг унылыми голосами начали петь:
Бдите и молитеся,
Не весть-бо, когда время будет,
Кого час наступит...
Стояла красноватая мгла в палате от благовонных масел, воскуряемых перед гробом царевича.
Глядя на душевные страдания царя, монахи пели с еще большей скорбью в голосе, еще более надрывно, пропитывая слезами каждое слово.
Все четыре дня и все четыре ночи царь Иван не отходил от гроба, не ел и не пил, не смыкал ни на минуту глаз.
По площадям и около храмов Александровой слободы днем сенные девушки царевны Елены по приказанию царя оделяли нищих грошиками, кормили голубей освященным зерном, дабы птица небесная, взлетая ввысь, доносила до неба печаль государя и его мольбы о прощении.
Мрачные, темные облака в небе слагались, проплывая над Александровой слободою, в громадные черные страшилища. Жутко было смотреть на них.
Ночью на площадях беспокойно метались на ветру огни костров, а около них молчаливо обогревалась конная стража, расставленная Бельским по всем площадям, заставам и окрестным дорогам.
Обыватели слободы в смертельном ужасе забились в свои углы, боясь зажигать даже лучину в каморках, боясь и думать о том, что случилось. Страшно было произнести даже самому себе, что «царь убил своего сына Ивана», а это уже каким-то путем, какими-то непонятными звуками дошло до слуха всех слобожан.
Стража неизвестно по какой причине ожесточилась, озверела, гоняясь за ни в чем не повинными людьми, стегая их нагайками, хватая их на дорогах и бросая в тюрьму. За что?! Получалось, будто царевы слуги вымещают зло на народе, мстят народу за смерть царевича.
Боязно стало и в церковь ходить; между тем унылый протяжный гул колоколов с тоскливой настойчивостью звал слобожан к службе молиться об упокоении несчастного царевича.
Сидишь дома и думаешь: не почли бы и то за преступление, что ты спрятался и не идешь в храм. А как пойдешь, тогда те же царские слуги, словно на воров, нападают, бьют. И конечно, думает слобожанин, это не иначе как по наущению самого грозного царя. Таков уж обычай появился у людей: что в слободе ни делается – плохое ли, хорошее ли, все исходит от самого царя, все от него, от батюшки. И то правда: насмотрелись за эти двадцать лет такого, чего ни в сказке сказать, ни пером написать, «дай, Господи, и детям нашим того не видеть!».
Вздыхает обыватель, места себе не находит: «Как же это так, Господи, спаси и помилуй: государь, царь, да своего родного сына, царевича, порешил?! Того и в черном народе-то слыхано не было. Уж не лишился ли рассудка грозный царь?!»
Мысли клокочут, бушуют в головах, обжигая души, приводя их в неистовое томление, охватывая какою-то внутреннею жаждою... Невольно человека тянет к ковшу, – но сколько ни пей, а все горит внутри, не перестает сосать горючая тоска.
В беззвучной темени ночами из-за туч выглядывает искривленный горем лик луны: на все ложится серебристая скорбь; и кажется, что башни государева дворца навсегда застыли с раскрытыми от ужаса слюдяными глазницами.
На рассвете мирно бредут монахи в монастырь, низко опустив головы, равнодушные к остервенелому лаю подворотных псов.
В лощине, недалеко от слободы, среди диких лесных зарослей в этот час начинает поблескивать своею поверхностью, похожей на вороненую сталь, большое круглое озеро, на котором некогда в богато убранной галере совершал свои прогулки с царевичами Иваном и Федором чадолюбивый государь...
Оно пустынно и покрыто клочьями разорванной мглы тумана, обволакивающей лесные озера... Медленно выползает она из соседнего громадного болота, вдавившегося в вековой бор. Волки любят это место, и нередко можно слышать их леденящий душу вой... Они осмелели в последние дни, подходят к самым дворам на слободе. Недавно волчица уволокла в лес ребенка. Мать, на глазах которой случилось это несчастье, ума лишилась; ее посадили в клеть, связав по рукам и ногам, чтобы не шумела.
Строгие, хмурые конные ратники объезжают узкие улочки слободы, пристально приглядываются к каждому, кто по какой-либо надобности выходит из дома. Бабы, завидев их, бросают бадьи у журавлей и бегут, чтобы спрятаться во дворе. Мужики ворчат на баб, а сами топчутся на месте в сенях, не решаясь выйти на улицу.