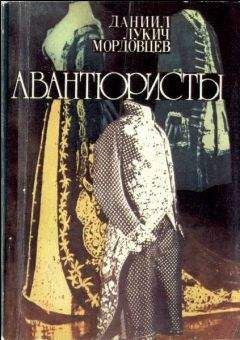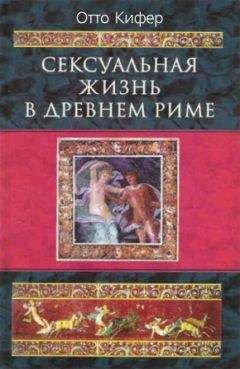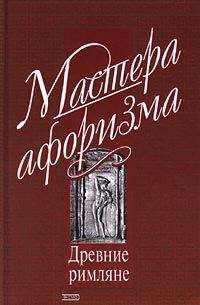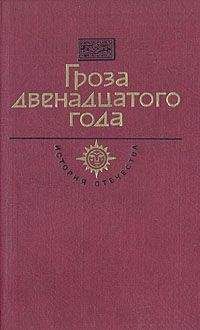Даниил Мордовцев - Царь Петр и правительница Софья
Царственные женщины, по-видимому, с большим интересом слушали россказни об этих сомнительных чудесах и знамениях: для них это была поэзия, мир таинственных мечтаний. Только такие бродяги, как этот Емельянушка — повенчанин, да разные странники и странницы, шатавшиеся по святым местам, только они и вносили что-то новое в их тюремную, затворническую жизнь: та в киевских пещерах видела, как из святой главы миро точится; тот сидел на пупе земли; этот видел кипарис — древо, а тот под Соловецким монастырем видел самого кита — рыбу, на котором земля держится. Все это был для них неведомый мир, полный чудес и глубокого очарования! Вот бы вырваться из терема да хоть бы одним глазком взглянуть на Афон — гору, которая в самые облака, говорят, упирается, а с нее можно прямо на небо пройти; или посмотреть на Арарат — гору, на которой лежит вечный снег лето и зиму, а на этом снегу далеко-далеко виднеется Ноев ковчег, а туда и орел долететь не может, на что высоко летает; или туда бы, на теплые воды, куда птицы на зиму летают…
И действительно, в это время где-то высоко-высоко в небе перекликались птицы. И Евдокия и Марфа подняли головы: по ясной синеве неба ломаною линией тянулись к югу дикие гуси, и голоса их звонко отдавались в прозрачном воздухе.
— На теплые воды летят, на зиму, — сказала Марфа.
— Да, — задумчиво вздохнула царица.
— А я, матушка-царица, и на теплых водах был, сподобил Господь, — вмешался бродяга, — таки теплы, таки теплы, что подогреть их самую малость, яички бы сварились.
— А где они, теплы — те воды, Емельянушко? — полюбопытствовала Марфа.
— Да за Кеивым за самым, матушка-царевна, — не смущаясь, врал бродяга, — а птицы там этой, и гусей, и лебедей, руками бери.
— А люди там есть, на теплых водах, Емельянушка?
— Малость людей, матушка; все ефиопы.
— А ты и ефиопов видал?
— Как не видать! Там их ефиоп на ефиопе.
— А ефиопки каки из себя?
— Черны, что уголь, матушка, и нагишом ходят по улицам.
— Ай срам какой! Вот срамницы!
— Что и говорить, матушка-царевна! Поганый народ.
— А веры какой они?
— Ефиопской, матушка, все у них ефиопское.
Хоть бы на ефиопов взглянуть! Да где ж! Разве это можно? Да и нагишом ходят.
Вот так и тянется год за годом в этой тюрьме, в тереме. Все люди живут как люди, а у них все не по-людскому.
Ни мать, ни тетка не заметили за своими думами, что маленький царевич перестал копаться в песке и внимательно слушает бродягу.
— Мама, — вдруг обратился он к матери.
— Что, сыночек? — спросила она, продолжая думать свою думу.
— Ты меня пустишь на теплые воды, когда я большой вырасту?
— Зачем тебе туда, светик?
— К ефиопам, мама… Я пойду в страннички.
Царица грустно улыбнулась, а бродяга даже руками всплеснул от восторга.
— Ай да царевич! Ай да светик! Благое дело изберешь, святое!
А царице с горестью думалось: «Может, и впрямь каликой перехожим батюшка сделает… Судьбина наша с тобой такая: мне темна келья, тебе посох каличий»…
— А царем кто ж у нас будет, Алешенька? — притянула к себе мальчика тетка — царевна. — А?
— Царем будет батя, — отвечал ребенок.
— А ты не хочешь?
— Я боюсь.
Старая мамушка, стоя в сторонке и подперев щеку правою ладонью, грустно качала головой. Она сердцем чуяла то же, что и ее вскормленница, горемычная царица: «Келейка, келейка темная»…
А московские колокола продолжали звонить все с тою же дикою нестройностью. Там было шумно, весело, а здесь тихо, печально. Высоко в небе перекликались улетавшие на теплые воды вольные птицы, а здесь в саду тихим, робким шепотом шептались деревья, с которых, медленно и тихо кружась в воздухе, так же тихо, беззвучно падали на землю желтые листья.
IX. Заговор Цыклера
Помимо царственных затворниц были на Москве и еще люди, которые прислушиваясь к трезвону «всепьяннейшего и всешутейшего собора», не тосковали о воле, подобно покинутой царице и царевнам, а скрежетали зубами от ярости. К числу этих недовольных принадлежал тот, кто метил на всероссийский престол, на место царя Петра Алексеевича.
Кто же был тот дерзкий, который думал, столкнув со своей дороги и с трона преобразователя России, повернуть всероссийский государственный корабль, на всех парусах выходивший в открытое море европейской жизни, повернуть этот корабль «назад, домой», на жалкие воды Москвы-реки и Яузы? Читатель, вероятно, не догадывается, о ком я говорю. Это не была царевна Софья Алексеевна, хотя и она, тоскуя в Новодевичьем монастыре и прислушиваясь к звону сорока сороков московских церквей, продолжала задумываться о «двух гробиках» и вспоминать о своем былом счастье, о своей любви, о своем «мил-сердечном друге Васеньке». Нет, это была не она.
Посмотрим же мы на него, на того гиганта, который задумал было дать России не ту историю, которую мы знаем — не историю Петра, Елизаветы, Екатерины, а свою собственную…
В доме Цыклера, на Таганке, собрались гости. В просторной палате, за большим четырехугольным столом, покрытым узорчатою скатертью и уставленным разною посудиною с напитками, на резных лавках, покрытых коврами, сидят пять человек, не считая хозяина. В переднем углу под образами восседает благообразный старик со светлыми, давно поседевшими волосами и кроткими голубыми глазами. Одет он богато, но старомодно. Это Алексей Соковнин, бывший приближенным лицом еще у царя Алексея Михайловича, родной брат знаменитых раскольниц, пострадавших при «тишайшем», боярыни Морозовой и княгини Урусовой. Рядом с ним средних лет мужчина, черноволосый, подвижной. Это Федор Пушкин, зять Соковнина и предок нашего знаменитого поэта Пушкина.
Против них на скамье, судя по одеянию, два стрельца: это и были стрелецкие пятидесятники, Филиппов да Рожин. Рядом с ними пятый гость, донской казак, коренастая, сильно загорелая личность по фамилии Лукьянов.
— Ишь раззвонился еретик! — сердито сказал старик Соковнин.
— Да… Кажись, и церкви московские в свою потеху поворотил, — с иронией заметил Цыклер, который стоял на пороге во внутренние покои и, казалось, поджидал кого-то.
— А попов и архиереев поверстает в конюхов, — вставил и Пушкин.
— Как вас, молодшую братию, в голанских плотников, — засмеялся хозяин.
Пушкина задело это, и он вскочил, чтобы возразить, но в это время на пороге показались две женщины, богато одетые. Впереди плавно, словно лебедь белая, выступала старшая, полная белокурая боярыня, а за нею несла поднос с серебряным кувшином и стопою молоденькая миловидная боярышня, от которой веяло молодостью и свежестью, как от только что распустившегося цветка.
— А вот и хозяюшка с дочуркой пришли попотчевать дорогих гостей, — весело сказал Цыклер, указывая глазами и поклоном в сторону пришедших.
Гости встали.
— Здравствуй, матушка Арина Петровна! — приветствовал ее Соковнин. — И ты, красавица Настенька, попрыгунюшки, вдоль растунюшки! Ишь как выросла.
Девушка вся зарделась и не смела поднять глаз на гостей.
— Спасибо на привете, боярин, — отвечала хозяйка, — прошу отведать моего медку.
И она налила стопу пенящимся медом. Девушка стояла с подносом неподвижно.
— Подноси же, Настенька, — шепнул отец.
— Нет, нет! Пуская хозяюшка пригубит, — сказал Соковнин.
— И точно, — согласился хозяин, — а то, может, оно с отравой.
— Да, да… по нонешним временам, — смеялся Соковнин.
Цыклерша пригубила. От нее Настенька подошла к Соковнину и поклонилась. Гостям блеснула в глаза алая лента, вплетенная в толстую русую косу.
— Да из таких ручек и отравное зелье с охотою выпьешь, — шутил старик, принимая стопу.
Настенька зарделась еще больше.
Стопа обошла, наконец, всех гостей. Загорелый донец даже поперхнулся, заглядевшись на красавицу Настеньку.
— Ну, и мед у тебя, хозяюшка! — шутил Соковнин. — Инда донского атамана сшиб.
Проделав эту светскую церемонию, женщины удалились в свой терем. Хозяин стал сам потчевать гостей, обходя по порядку каждого и наливая вино в стопы.
— Не обессудьте, гости дорогие, не заморски у меня напитки-то, — говорил он, — не привык к заморским.
— Ничего, Иван Богданыч, — улыбнулся Соковнин, разглаживая свою седую пушистую бороду, — скоро придется к заморщине-то привыкать!
— Как так! — удивился хозяин. — Я не недоросль.
— Ну так ин переросль, все равно за море усылают.
— Меня-то, боярин?
— А в турецкую-то землю, за Азов-город, в эту, как ее?
— А! В Таган-рог…
Брови Цыклера нахмурились, глаза сверкнули.
— Да, в Таган ли рог, в бараний ли рог, все едино, — ехидно заметил старик.
— Ну, боярин, — сказал после некоторого раздумья Цыклер, — уж коли ушлют в Таган-рог, так я вору-то нашему потешному не спущу: ворочусь на Москву с донскими атаманами, да и его самого в бараний рог согну. Так ли я говорю, Петра? — обратился он к Лукьянову.