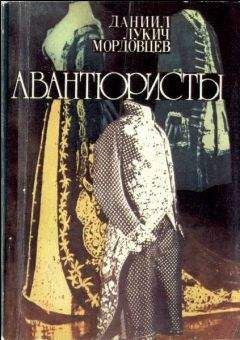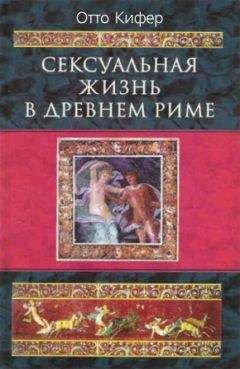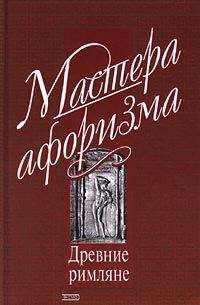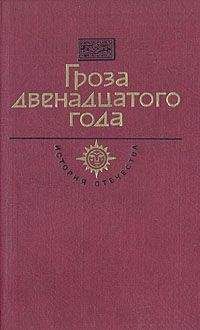Даниил Мордовцев - Царь Петр и правительница Софья
— Об Якушке Янсене, государь, изволил приказывать, чтоб к колесованию все было готово, — отвечал Меншиков, глядя прямо в глаза царя.
— Не про то! — крикнул Петр и так ударил кулаком по столу, что опрокинул Большого Орла.
Он был страшен. Жилы на лбу вздулись, как веревки. Но Меншиков нашелся.
— Об новой фортеции, государь, приказывал… о Таганроге…
— Да, да, вспомнил….
— Понеже фортуна сквозь нас бежит, — продолжал Меншиков, — и ты, государь, изволил сказать о фортуне: блажен, иже имется за власы ея….
— Так, так… Таганрог там заложу… Молодец Алексашка! Иди, я тебя поцелую… Да, за волосы фортуну, за волосы!..
VIII. Женщины терема
Что же делала молодая царица, Евдокия Феодоровна, тотчас после венца ставшая «соломенною вдовою», что делала она в то время, когда ее благоверный тешился со свой компанией? Она сидела в Преображенском и прислушивалась к неистовому звону колоколов всех московских церквей, а сердце ее ныло, ныло.
Теперь она сидит в дворцовом саду села Преображенского и греется на солнышке, которое все более и более идет на зиму, на мороз, как и ее горькая жизнь — жизнь замужней вдовы. Давно повернула на зиму ее жизнь, с самого венца, и вот уже седьмой год она ничего не чувствует на сердце, кроме зимнего холода и горечи. Около нее на песке играет ее сын, царевич Алешенька, сын того, что теперь пирует со своими друзьями, такой же, как и мать его, горький ребенок, покинутый отцом. Ребенку уже шестой год пошел, и хотя он тянется в рост, в батюшку, но смотрит таким худеньким, хилым: нет в нем батюшкина огня, а скорее видна матушкина мягкость. Рядом с царицей на скамейке сидит царевна Марфа Алексеевна и тоже, по-видимому, прислушивается к звону колоколов.
Грустно в саду. Наступающая осень уже наложила на него холодную руку. Листья на деревьях выцветают, желтеют, а если иные и горят осенним пурпуром, то пурпур этот так напоминает румянец чахоточного. Отживает зелень, покрывается желтизной, словно лицо отживающего человека. Опадающие с деревьев желтые листочки точно последние бабочки кружатся в воздухе и тихо, беззвучно спускаются на землю, усыпая собою красноватые дорожки сада. Да, грустно в саду, тихо. Но еще более грустною кажется эта тишина, это уединение, когда издали доносятся неистовые звуки буйной жизни, нестройный говор захлебывающихся колоколов.
Там весело, а здесь…
Царевна Марфа глянула украдкой на невестку и вздохнула. Та сидела грустная, задумчивая.
— А был у тебя, сестрица, сокол — от твой? — спросила ее царевна.
— Нету, сестрица, не был, — тихо отвечала та.
— Ах он изверг! — в негодовании говорила Марфа. — Да где ему! Когда ему с женой возжаться! У той, сказывают, всю ночь провел…
Царица видимо побледнела, но ничего не сказала.
— А сколько гостинцев навез ей! Каки ковры да шали турецки да персидски! Так и завалил суку гостинцами.
— Кто? Батя? — спросил вдруг маленький царевич, отрываясь от кучи песка, из которого он строил какую-то пещерку. — Батя привез гостинцев?
— Да, соколик, он, — отвечала Марфа.
— А кому, тетя? — допытывался мальчик, который очень любил собак. — Где эта сука?
— В Немецкой слободке, — улыбнулась царевна.
— А как ее зовут?
— Анкой.
— А хорошая она, тетя? Большая?
— Нет, соколик, не хорошая, паршивая.
— Ах, бедная… Вон у меня была тоже паршивая Змейка, так ее конюх Юрка из поганой пищали застрелил, — болтал ребенок.
— И добро, соколик! — смеялась Марфа. — И эту бы пора застрелить из поганой пищали.
Царевич опять погрузился в сооружение пещерки из песка. Опять тихо кругом, только из Москвы доносится набатный звон, да в чаще сада иногда пропищит та осенняя птичка, которая предвещает холод и которую поэтому называют холоднушкой или ивашечком.
Наступило тягостное молчание. Царевна Марфа, видимо, желала бы прервать его, но как? С чего? Опять о соколе…
— А что ты, царевич, делаешь? — спросила она наконец.
— Келейку себе делаю, тетя, — отвечал ребенок.
— Аль в монастырь собрался?
— В монастырь, к тете Соне.
— Ну так! В Новодевичий-то? Да ведь ты не девка… Али царем не хочешь быть?
— Не хочу.
— И святое дело, соколик. Лучше в келейке молиться, нечем батюшковым-то обычаем царство мутить.
И опять молчали собеседницы. Да и о чем говорить им, тюремным заключенницам? Судачить про то, что делают другие на воле, на вольном свету? Да и это надоест… Все сидеть да сидеть в постылом терему да вышивать золотом «воздухи» на престолы по церквам, да орари дьяконам, да поясы попам, видеть только монашек да юродивых, знать только терем, да церковь, да сенных девушек… Да и те счастливее, могут вырваться в город, людей посмотреть…
Горько! Горька тюремная жизнь… А молодая кровь ключом бьет, в щеки вступает, спать не дает… А он-то гуляет на стороне — и знать ее не хочет. Да она уж и не любит его, обида только гложет душу. Вырваться бы отсюда, из этой тюрьмы: лучше быть простой оладейницей, простой бабой на воле, чем царицей…
И ей постоянно вспоминается горькая песня царевны Ксении Борисовны Годуновой:
Ино охте мне молоды горевати,
Как мне в темну келью ступати!
Отворити будет темна келья,
Темна келья младой отворити,
На добрых молодцов посмотрити…
Нет, не смотреть уж ей на них… Видела она одного, Глебова, уже пожилого, а как глянул он на нее, так сердце ее и улетело к нему и кукует по нем горькою кукушечкою… Да что о нем думать! Только душу надрывать… Вот ей, царевне Марфушке, легче живется, хоть она и в девках осталась: ей вольнее и выходить, и видеть, кого она любит… А любит она, царице это хорошо ведомо, любит она того сладкогласого дьякона, Иванушку Гавриловича. На что ей муж, коли у нее есть полюбовник.
— А давно, Марфуша, видела ты сестрицу, царевну Софью Алексеевну? — прервала она, наконец, тягостное молчание.
— Онамедни была у нее, сестрица.
— Что она, как?
— Томится, бедная, ведь ей из монастыря ни на шаг: у ворот караул несменный. Седеть начала. Да и по князь — Василее тоскует.
— По Голицыне?
— По нем… любились ведь они, сестрица, сколько годов любились.
— А что он? Где?
— Да все там же, куда и ворон костей не заносит: не то в Пустозерске, не то в Мезни; и по тебе Софьюшка горюет: изведет он ее, говорит, изведет… Это твой-то… И сыночка, говорит, изведет… Хочется ему-де после себя немецкое семя оставить от суки Анки.
Бледность опять покрыла несколько ожившие щеки молодой царицы. Испуганно посмотрела она на своего сына и, подойдя к нему, припала лицом к его курчавой головке и заплакала.
— Бедный ты, мой сиротинушка… при отце, при матери сиротка!
Ребенок тоже заплакал.
В это время в саду показалась старая мамка царицы, а за нею высокий старик с длинными, как у женщины, седыми волосами и такою же до пояса бородою. Это был тот фанатик, которого мы видели уже на Палеострове, на Онежском озере, когда он проповедывал раскольникам самосожжение.
— Вот я вам и Божья человека привела, — добродушно говорила мамушка.
Гость смиренно подошел к царице и царевне и низко поклонился, касаясь земли пальцами.
— Мир ти, благочестивейшая царица, и тебе, матушка царевна! — сказал он торжественно.
Маленький царевич узнал его и бросил свое копанье в песке: в его замкнутой детской жизни даже этот гость служил развлечением.
— Благоверному царевичу радоватися и в возраст приходити! — приветствовал старик поклоном и царевича. — А пожалуй ручку.
Ребенок протянул руку, запачканную песком. Старик поцеловал ее и стал около ребенка на колени.
— А молиться, светик умеешь? — спросил он.
— Умею, — смело отвечал ребенок.
— А ну-ну, посмотрим, как ты делаешь крестное сложение.
Царевич сложил три пальца и стал креститься.
— Ай-ай-ай! — схватил его за руку старик. — Ноли так можно, по-никоновски щепотью.
И он сложил ребенку пальцы «истово».
— Во как подобает знамение творить, светик — царевич.
Но у того пальчики не слушались, и фанатик сам рассмеялся.
— Ну ин ничего, тебе можно и кулачком креститься: твой и кулачок Господь примет… Твое бо есть царствие Божие, так и Христос сказал.
Потом, обратясь к царице и к царевне Марфе, старик заговорил:
— А вот я вам, благочестивейшая царица и матушка-царевна, расскажу, какая в том крестном знамении сила живет. Прилучися мне и некоему мужу, именем Карпу, в ладии по озере Онежскому плыти, к Палье — острову, иде же тысящи три мужей и жен верных за двуперстное знамение венцы мученические приняли. Плывем мы это, и се абие сотвори бес тому Карпу соблазн: свержеся с ладии в озеро и волнами отнесен бе далече от ладии. Карп же оный, не умеяй плавати, начен потопати, и в ту пору стал креститися щепотью. И се абие явися бес на воде во образе ефиопа и, восплескав руками, возопи: наше еси, Карпе. Я же, призвав на помощь Бога и пресвятую его Матерь, рек гласом велиим: тако твори знамение, Карпе. И показал ему тако. И сотвори тот Карп по глаголу моему. И се оле чуда чуднаго! Виде Карп мужа некоего, сединою украшена довольно и брадою кудреватою, — и подъемлет тот муж Карпа под руки и принесе до ладии. Последи же явися тот муж оному Карпу в тонце сне и рече: аз есмь протопоп Аввакум, пострадавый за двуперстное знамение. И отселе твори таковое же знамение, как показал тебе Емельянко — повенчанин, сиречь аз худый и смиренный… Такова-то в том знамении сила живет.