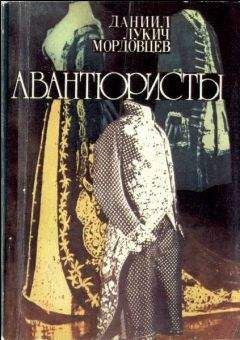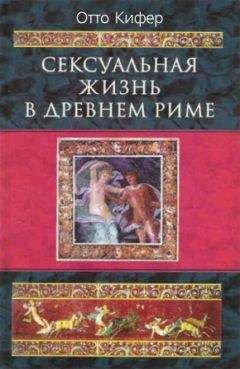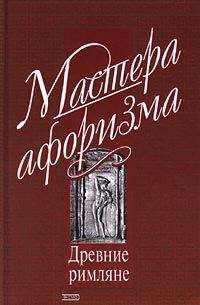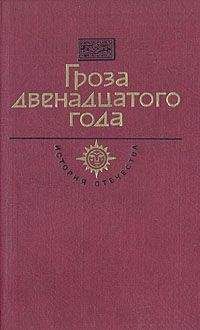Даниил Мордовцев - Царь Петр и правительница Софья
— Неподобный отче Бахусе, моли Венеру о нас!
Другие молились Бахусу так:
— Непотребный отче, Ивашка Хмельницкий, моли Купидона о нас!
Потом все чинно занимали места. Когда собрание оказалось в полном составе, архижрецы взяли кадильницы и начали кадить табаком Бахусу, а все прочие, встав с мест, ужасающими голосами в нос запевали «песнь Бахусову»:
Бахусе, пьянейший главоболения,
Бахусе, мерзейший рукотрясения,
Бахусе, пьяным радование,
Бахусе, неистовым пляс велий,
Бахусе, блудницам ликование,
Бахусе, хребтом вихляние,
Бахусе, ногам подъятие,
Бахусе, лядвиям поругание,
Бахусе, верным тошнота,
Бахусе, портов пропитие,
Бахусе пьянейший, моли Венеру о нас!
Алексашка, украшенный козлиного бородою, пел дискантом, а бас Бориса Голицына покрывал все собрание. Сам царь, изображавший архидьякона, «князь-папина жезлоносца», держал в руках самый «жезл», то есть свою излюбленную дубинку, которую он в случае надобности и пускал в ход, но теперь он находился в благодушии и пока еще никого не побил.
На авмон взошел князь-кесарь Ромодановский.
— Отцы и братия! — возгласил он. — Воспев песнь Бахусову, шествуем ныне, по чину пьянственному, ко избранию всепьяннейшаго и всешутейшаго патриарха азовскаго, кого непотребный Бахус указать нам соизволит. Сего ради усердно возопием: Бахусе! Владыко пьянаго живота моего! Дух чревоугодия, празднословия и буйства даждь ми, духа же целомудрия и смиренномудрия отыми от мене!
— Аминь! — заревело собрание.
Начиналась самая процессия. Архижрецы, встав со своих мест, окружили возвышение, на котором Бахус восседал на бочке, и одни из них взяли сосуды с дымящимися в них табачными листьями, другие чаши и сосуды с пьяными напитками, третьи, наконец, подняли на свои плечи самого Бахуса с бочкою и, предшествуемые табачными курениями и сосудами с вином, двинулись на двор, где их встретила ужасная оглушительная музыка, ожидавшая на дворе появления бога пьянства. Воздух огласился неистовым звоном медных тазов и тарелок, оглушительными свистками, шумом и грохотом трещоток — и все это с умыслом, нестройно, дико, бешено, с визгами и кривляниями. В тот же момент, по вестовому звону с Ивана Великого, начался набатный ужасающий трезвон всех московских колоколов, что-то адское, безумное, потому что царь приказал ранее подпоить всех звонарей, а народу на все главные улицы и площади велел выкатить «беремянныя» бочки — сорокоуши с вином, конечно, «зеленым». Процессия двигалась медленно и с каждым шагом толпы, за нею следовавшие, постоянно вырастали. Москва опять вся высыпала из своих домов, кабаков, рядов, линий и закоулков: ее привлекали и невиданное зрелище и водка. Особенно поражал всех Бахус, которого принимали за турецкого бога.
— Это, сказывают, братцы, турецка Иверска, ей турки молебны поют.
— Иверска! Ишь чего выдумал! Али не видишь, что у его…
— Нету, православные, этто турский Махамуд, идол такой, ему же басурмане кланяются.
Адская музыка, адский звон и неистовый радостный рев пьяного народа провожали дикую процессию до самого дома боярина Никиты Моисеевича Зотова, которого прочили во всепьяннейшего и всешутейшего патриарха, или «князь-папу».
Процессия ввалила в большую палату, где должно было произойти самое избрание «князь-папы». Истукан Бахуса вновь поставлен был на возвышении, а против него уже находился на эстраде трон «князь-папы» : трон этот был ничто иное, как прорезной стул.
Собрание вновь затянуло «песнь Бахусову»:
Бахусе, пьянейший главоболения,
Бахусе, мерзейший рукотрясения
и т. д.
За песнью следовало самое избрание. Архижрецы принесли и поставили перед Бахусом избирательный ящик и два лукошка с яйцами, одно с белыми, другое с красными. Яйца заменяли собою избирательные шары и, по мнению тогдашних нигилистов, имели исторический смысл: известна легенда, а может быть, и истина из истории папства, в которой было столько же постыдного, сколько и преступного, что одно время на папском престоле сидела женщина, под именем папы Александра VI. По смерти этой разгульной папессы кардиналы, чтобы не быть вновь одураченными, каждого вновь избираемого папу подвергали осязательному освидетельствованию; тело же носившей при жизни папскую тиару выкрали из гроба и ныне действительно гроб папы Александра VI, находящийся под базиликою Петра, пуст.
Вот этот-то прием освидетельствования папы и был применен теперь при избрании всепьяннейшего и всешутейшего «князь-папы».
Было два кандидата на всешутейшество — князь Борис Алексеевич Голицын, бывший дядька царя и великий пьяница, и Никита Зотов, бывший учитель Петра Алексеевича, тоже любивший выпить, как и вся эта веселая компания.
Первым на трон посадили Зотова и закрыли покрывалом. Затем члены собора, всешутейшие кардиналы, стали подходить к нему… Наконец обряд освидетельствования кончен. То же проделано было и с Борисом Голицыным, а затем приступили к самому избранию. Заправлял всем архидьякон Петр, который каждому подходящему к нему кардиналу клал в правую руку два красных яйца, в левую два белых: красные считались избирательными, белые неизбирательными.
— Краснота знаменует мощь, белизна же немощь.
Избранным оказался Никита Зотов.
— Тако да потемнится свет твой пред человеки и да не видиши ничего же в пьянстве твоем! — возгласил архидьякон.
— Многая лета, многое пьянство! — пели кардиналы.
Поздравив новоизбранного, его тотчас же посадили в огромный ковш и, обнеся три раза «посолон», по-раскольничьи, вокруг чана, наполненного вином, опустили в этот чан. Положение «князь-папы» было критическое: при малейшем движении, ковш мог опрокинуться, и старик погрузился бы в чан.
Тут архидьякон Петр подал ему чару, «князь-папа», рискуя опрокинуться, должен был черпать чарою вино из чана и угощать всех архижрецов и всю братию великой пьянственной обители.
Потом его вынули из чана и возвели на возвышение.
— Пьянство Бахусово да будет с тобою! — возгласил архидьякон.
— Аминь! — отвечало собрание.
— Исповедуеши ли символ пьянства? — спросил новоизбранного архидьякон.
— Исповедую и делом творю, — отвечал князь-папа, — вином, яко лучшим и любезнейшим Бахусовым даром, чрево свое, аки бочку, добре наполняти имам и наполняю тако, яко же иногда и ядем, мимо рта моего носимым, от дрожания моей десницы и предстоящей очесех моих мгле не вижу, и тако всегда творю и учити мне врученных общаюсь, инако же мудрствующия отвергаю и яко чуждых творю, и анафематствую всех пьяноборцев, но, яко же выше рек, творити обещаюсь до скончания живота моего, с помощью нашего Бахуса, в нем же живем, а иногда и с места не двигаемся, и есть ли мы, или нет, не ведаем.
— Аминь! — орало собрание, уже подвыпившее.
Тогда началось рукоположение и облачение новоизбранного.
— Облачается в ризу неведения своего! — возглашает архидьякон.
И на нового папу надевают шутовской наряд. Зотову через плечо вешают флягу, наполненную вином.
— Сердце исполнено вина да будет в тебе!
Возлагают нарукавники:
— Да будут дрожащи руце твои!
Архидьякон вручает «князь-папе» свою дубинку и говорит:
— Дубина Дидана вручается тебе, да разгонявши люди своя!
Тогда подходит верховный жрец, которым на этот раз был генералиссимус Шеин, неся на тарелочке скляницу с мушкателенвейном, и проделывает обряд «винопомазания»; помазывает прежде голову, а после тем же вином обводит круги около глаз, а Петр, исполняя свою обязанность архидьякона, басит:
— Тако да кружится ум твой!
— Аксиос! Аксиос! Аксиос! — ревет собор.
Затем на новопоставленного надевают тиару — дурацкий колпак с погремушками.
— Венец мглы Бахусовой возлагается на главу твою, да не познаеши десницы твоей в пьянстве твоем! — заключает архидьякон.
Наконец «князь-папу» сажают на седалище, на бочку, и дают в руки гигантский кубок, чашу, именуемую «Большого Орла»: папа выпивает сам эту страшную чашу и потом угощает весь собор.
И уже после этого начался настоящий чудовищный пир. Но и в самый разгар вакханалии царь думал о деле. Алексашка, хоть и был пьян, но раньше других заметил, что лицо Петра вдруг начало подергиваться и глаза налились кровью. Зная характер своего повелителя, он собрал всю силу воли и всю свою память, чтобы отрезвить мозг, сознание, чтоб не быть застигнутым врасплох. Так и случилось. Царь, по-видимому, хотел что-то припомнить и не мог. Это начинало приводить его в бешенство.
— Александр! — крикнул он через стол, так что даже пьяные архижрецы и кардиналы вздрогнули. — Что я тебе ноне приказывал?
— Об Якушке Янсене, государь, изволил приказывать, чтоб к колесованию все было готово, — отвечал Меншиков, глядя прямо в глаза царя.